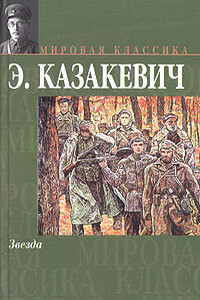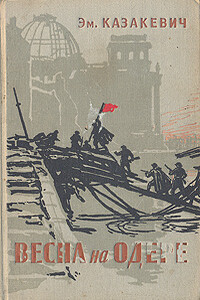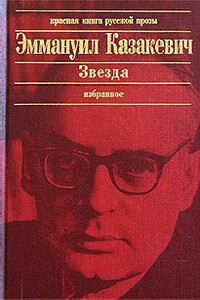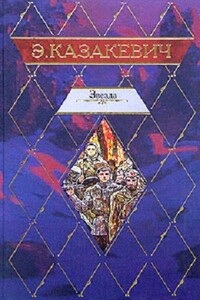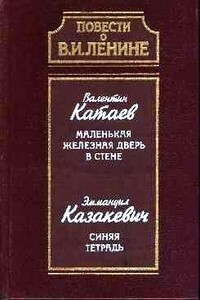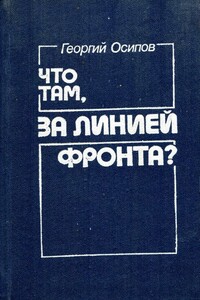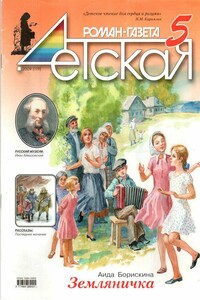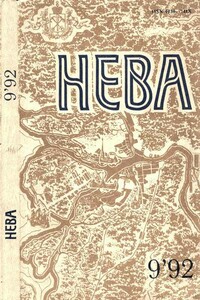Две тенденции нашли свое отражение в процессе работы над романом. Одна обнаруживает как раз стремление писателя выйти из границ "наставления по комендантской службе". Недаром в третьей части романа против первоначального плана выросло значение "дела Лубенцова" со всеми его драматическими поворотами. Другая тенденция состояла в намеренном сужении общего исторического и политического фона за счет тех событий, которые оставались внешними и не поддавались включению в непосредственный сюжет. Так, в первой части сокращалась глава о Потсдамской конференции и при подготовке романа к отдельному изданию была исключена вовсе. Во второй части первоначально планировался рассказ о Нюрнбергском процессе, в третьей — глава "Черчилль в Фултоне". При завершении романа писатель от этого отказался.
Намерение создать образ "отличного коменданта" было реализовано, но в соответствии с писательской тягой к обобщению привело к воплощению его представлений об образе положительного героя как реальности, которую художник обязан увидеть. Свои представления Казакевич формулирует как раз в пору работы над романом: "Это человек сложный, умный, мыслящий, деятельный, страдающий, как и полагается человеку при встрече с недостатками, неполадками, при столкновениях со старым, которое кое-где еще сильно; но не опускающий руки, готовый драться за коммунизм; человек, полный оптимизма; человек — светлый, прекрасный, хотя и обыкновенный".
Критика, в общем хорошо принявшая роман, все-таки ставила Казакевичу в вину то, что он наделил Лубенцова своими мыслями и тем ограничил свободу проявления характера. Писатель и впрямь использовал Лубенцова в качестве своего союзника по решению многих вопросов политики и морали, к которым был прикован всем своим партийным сердцем. В то же время образ Лубенцова не был просто художественной иллюстрацией дорогих писателю мыслей, он доказывал правоту своих идейных позиций каждым своим шагом, каждым поступком завоевывал право поступать так, как считал нужным.
Некоторые рецензенты выражали неудовольствие безгрешностью, ангелоподобностью Лубенцова. Л. Фоменко, например, видела в этом причину потускнения героя в конце романа (Л. Фоменко. Доверие и бдительность. — Дружба народов, 1956, № 8). А. Эльяшевич сетовал на то, что герой лишен возможности развиваться, а развиваться, по мнению критика, он обязательно должен, чтобы быть истинным (А. Эльяшевич. Герои истинные и мнимые. — Звезда, 1958, № 2).
Как бы предваряя своих критиков, Казакевич еще в сентябре 1951 года с полной отчетливостью заявлял: "…Моя литературная точка зрения ясна с юных лет: долой кроватный быт, затхлую бытовщину вонючих портянок. Я — за романтическую героику, в конце концов…" Лубенцов был рожден этой жаждой романтической героики. Писатель тяготел к ней, и его понимание задач литературы со времен «Звезды», "Весны на Одере", "Сердца друга" в главном не изменилось.
Текст печатается по изданию: Эм. Казакевич. Весна на Одере. Дом на площади. М., Гослитиздат, 1959.
Л. Гладковская