Дом, из рассвета сотворенный - [30]
Генри Желтый Бык:
— Будь сегодня с нами. Приди сейчас к нам в ярких красках и пахучем дыме. Помоги нам в пути нашем. Дай нам смех и светлость духа на все дни. Я хочу почтить тебя молитвой. Дар тебе приношу — эти слова. Слушай же их.
Кристобаль Крус:
— Я что — я просто хочу спасибо сказать всем хорошим друзьям тут кругом. За честь оказанную, значит, что следить за огнем дали и все такое. У нас тут сходка лучше нет, верно говорю? Мы виденья славные тут видим и все, значит, такое, и дружба насквозь у нас и сердечность, верно? Я просто хочу вслух помолиться за достаток и за мир на свете и за братскую любовь. Во имя Христово. Аминь.
Наполеон В-Лесу-Убивает:
— Великий Дух, будь с нами. Мы, бедные индейцы, до смерти истосковались по тебе. В старину было время — мы впали в бесчинство, стали буйствовать и убивать друг друга без конца. И потому ты нас покинул, отворотился от нас. Теперь мы молимся тебе — помоги! Помоги нам! Мы страдаем, мучимся немалый уже срок. Давным-давно сложили мы оружие. Да мы ж хотим друзьями быть с белыми людьми. И вот я говорю тебе Великий Дух. Вернись к нам! Услышь мои слова. Я горюю, потому что народ умирает. Стариков наших нет уже… ох… Они, они учили призывать тебя пением, дымом, молитвой… (Тут В-Лесу-Убивает заплакал в голос, сотрясаясь телом. Никто не устыдился того, и вскоре он совладал с собой и продолжал.) Дети наши пропадают без тебя, Великий Дух. В них уже нету ведь никакого уважения. Ленивыми они стали, никчемными пьянчугами. Спасибо тебе, что выслушал меня.
Бен Беналли:
— Глядите! Глядите! Вон кони голубые и багряные… дом, из рассвета сотворенный…
В полночь стих на время звук, притихло движение мира. Огонь начал гаснуть, и люди, сидящие в кругу, медленно-медленно покачивались в такт слабеющему' вздрагивающему пламени. И на вершине пламени, на' скрещении взглядов, был фетиш; он словно пульсировал, вспухая и сжимаясь в тишине, и аромат шалфея сделался так густ, что от него жгло в ноздрях. Жрец Солнца поднялся и вышел. Вдалеке музыкальный автомат заполнял уголок ночи своим металлическим звуком, с улиц изредка слышался автомобильный шум. Наконец недвижную тяготу ожидания разбила резкая, пронзительная нота, и еще, и еще, и еще раз: то прозвучал четырежды свисток из орлиной кости. Стоя на улице, обрядово раскрашенный Жрец Солнца послал в четыре стороны вселенной весть о том, что в ней совершается священнодействие.
Разбито и рассечено лицо у Авеля, и в глазницах жжет, печет у переносья, и если бы хоть рукой коснуться. Он дернулся от боли и очнулся полностью, Один глаз приоткрылся, в щелочку он увидел свои руки; они изуродованы, искорежены, большие пальцы вывернуты, выломаны из сустава. Он вспомнил — сперва один палец, потом другой не спеша, почти мягко повернули вниз, к ладони, и давили, покуда кость не выскочила из гнезда наружу с громким щелчком. Руки черны от крови и страшно распухли — как резиновые перчатки. Туман вокруг сгущается, и вот уже и рук не видно. Он ощутил, что все тело его трясется, вскидывается, бьется как рыба. И он понял, что не только боль пронизывает это изувеченное тело, но и холод, никогда еще не леденивший так. Он хотел крикнуть, но из горла вырвались только хрип и сипение.
После смерти матери он иногда ходил к толстухе Джози, и та говорила с ним ласково, угощала вкусным. А когда никого рядом не было, она строила рожи, изощрялась в дурашливых ужимках, стараясь его рассмешить. Он был из несмеющихся детей, а у толстухи Джози своих не было, только дочка, уже взрослая, которая жила далеко, в большом городе. Увидев как-то гримасничанье Джози, старый Франсиско цокнул языком, велел оставить его внуков в покое, но толстуха Джози лишь подняла ногу и громко и насмешливо пустила ветры, чтобы прогнать старика. А дети льнули к ней и клали голову на ее бурые ручищи. Спустя неделю после похорон Видаля Авель, тайком от деда, в последний раз пошел к ней, прощаясь с детством. Она скосила глаза, высунула язык, стала плясать по кухне на своих босых лапах, пуская ветры и фыркая, как лошадь, и придерживая руками большущие груди. Они вываливались, пучились, мотались, точно бурдюки, а великанские ляжки колыхались, распирая старое засаленное платье, а широкое лицо лоснилось, расколотое поперек уморительно-глупой щербатой улыбкой, а из глаз все это время лились слезы.
Милли?
Ему страшно. Грохочут буруны, призрачными тенями полнится туман, и Авелю страшно. Ему всегда страшно. На кромке сознания вечно маячит что-то страшное, что-то пугающее. Что оно такое, Авель не знает, но оно всегда там — реальное, нависшее и невообразимое.
— Ни черта ему страшно не было, сэр, — сказал Баукер. Авелю неловко было слушать, он чувствовал замешательство и досаду на этого белого, который вот так при нем объясняет его поступок офицеру — как будто его самого здесь и нет.
— Мы с Митчем, с капралом Рейтом то есть, вкопались на скате тринадцатой, и на юг, вдоль гряды, у нас обзор был хорош. Обстрел прекратился как раз, а в живых оставались только я с капралом Рейтом да рядовой Маршалл, не считая его то есть, но мы его уже мертвым числили. Он лежал — должно быть, оглушенный. Маршалл, значит, вперед выдвинулся от нас с Митчем, на тот бок тринадцатой. А мы с Митчем — с капралом Рейтом — услыхали, что танк лезет наверх, и залегли. Нам оба склона видны были. Танк этот шел не спеша, зигзагом — просто местность проверял. Я наблюдал в бинокль. Уж я с танка глаз не сводил, можете верить, сэр. И тут Митч меня толкнул и показал на скат, чуть ближе. Смотрю, а это наш вождь краснокожих шевелится. Приподнялся и глядит вверх на гребень, куда танк всползает. А мы уж его в мертвецы было записали. Все ж остальные убиты — танк пустили просто для проверки, для зачистки. Ну вот — он, видно, только что очухался, и тут надо же, танк замаячил на гребне. В последнюю все же минуту он опустил голову, притворился мертвым. А мы не знаем, заметили его из танка или нет, но только этот танк чертов перевалил через гребень и вроде прямо на него попер. Но все же не заметил его танк и прошел мимо, чуть-чуть не раздавил, чума его дери! Митч — капрал Рейт то есть — ругнулся, а у меня дух сперло. И тут наш вождь встал на ноги, вот верите? Вскочил и давай прыгать и вопить вслед танку — тот всего еще в тридцати или там сорока несчастных ярдах ниже по склону. Надо ж такое! Орет вслед танку и рукой показывает — этого не хочешь, мол, — военный танец индейский пляшет с боевыми кличами! Мы с Митчем чуть не подохли. Мы глазам не поверили, сэр. Надо же — скачет и рукой качает и костит этот танк на все корки по-алгонкински или по-сиуйски. А при нем никакого оружия, даже без шлема. Ну, танк вдруг скрежетнул, остановился — даже подскочил, вот верите? — и как они секанут по нему: пах, пах, тах, татах! Что ты! Так и взметаются листья кругом него, а он свое — вопит и скачет, как… как… как не знаю что, сэр. Это ж надо! Горланит боевые кличи, как в кино, и рукой качает не переставая. Потом подался наконец оттуда в лес — не бегом, а опять-таки по-чумовому, с пляской на ходу! Скроется за дерево, а после опять запляшет свой тустеп — опять выскочит с боевым кличем, опять костит их спереди и сзади, а они по нему — пах, пах, тах, татах! Надо же такое, сэр. Это ж надо!
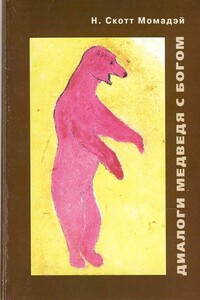
Есть народы, не согласные жить в мире без Медведя. Это люди, которые понимают, что без него нет девственого края. Медведь – хранитель и проявление дикости. По мере того, как она отступает – отступает и он. Когда плоть ее попирают и жгут, сокращается священная масса его сердца.
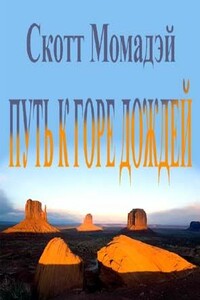
Феномену Н. Скотта Момадэя трудно подобрать аналог. Прежде всего, потому что у этой творческой личности множество ипостасей, каждая из которых подобна новому чуду, способному послужить темой самостоятельной беседы и анализа, ибо каждая связана с удивительными открытиями. Путь этого мастера богат откровениями, он полон новаторства во всех сферах творческой деятельности, где бы ни проявлялась щедрая натура этого человека.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
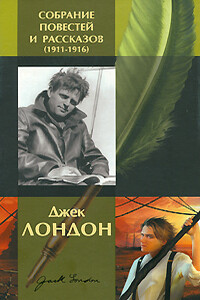
Русские погранцы арестовали за браконьерство в дальневосточных водах американскую шхуну с тюленьими шкурами в трюме. Команда дрожит в страхе перед Сибирью и не находит пути к спасенью…
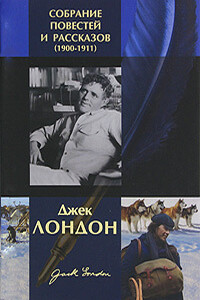
Неопытная провинциалочка жаждет работать в газете крупного города. Как же ей доказать свое право на звание журналистки?
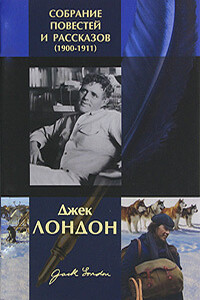
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
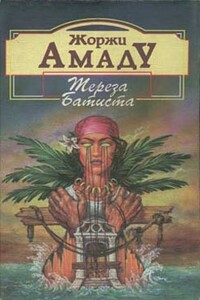
Латиноамериканская проза – ярчайший камень в ожерелье художественной литературы XX века. Имена Маркеса, Кортасара, Борхеса и других авторов возвышаются над материком прозы. Рядом с ними высится могучий пик – Жоржи Амаду. Имя этого бразильского писателя – своего рода символ литературы Латинской Америки. Магическая, завораживающая проза Амаду давно и хорошо знакома в нашей стране. Но роман «Тереза Батиста, Сладкий Мёд и Отвага» впервые печатается в полном объеме.
