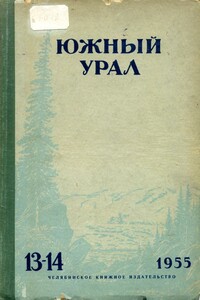А две пары ножек, оставив в пыли маленькие, как дубовые листочки, следы, уже пробежали вниз к роднику. Нашлись, значит, и нас попроворней…
ЧЕРНЫЕ УГЛИ НА БЕЛОМ СНЕГУ
Однажды утром Младшая Мать, которой уже на десятый десяток пошло, сидела притихшая, опечаленная чем-то. Когда же я спросил, здорова ли она, ответила «здорова» и даже улыбнулась. Но все равно вид был у нее невеселый. Я стал допытываться, и она сказала:
— Я сегодня на заре плакала.
— Отчего?
— Да так… По старости-дурости, наверное…
К материнским слезам равнодушным не останешься, особенно если матери за девяносто, а сыну под шестьдесят. Я снова и снова спрашивал:
— Может, обидели? Или болезнь затаила?
— Я жалеючи плакала.
— Кого?
— Кудрявую босоногую девочку. Восемь лет ей всего.
— Чья девочка?
— …Не было в доме спичек очаг разжечь, и ярым морозным утром дала мать девочке совок в руки и отправила к соседям за горячими углями. В одном платье, босиком, выскочила она из дома. Вот уже и обратно бежала, да возле самого порога поскользнулась она и упала. Все угли так и разлетелись из совка. Будто черные горючие слезы прожгли белый снег. И девочка как сидела, так и заплакала горько. Голые пятки ко льду пристыли. Этой девочкой я была. Проснулась сегодня на рассвете и от жалости к тому ребенку заплакала. Плачу, удержаться не могу. Если бы можно было, в самые теплые свои одежды ее одела, самыми вкусными своими яствами угостила. Если бы можно было… Да нет, невозможно. Плачь, убивайся, невозможно… Вот оттого, что ничего уже не поделаешь, я и плакала…
Вот ведь как. И счастливое, и несчастливое детство наше еще долгие-долгие годы следует за нами. А вернее, так и живет в душе, не уходит.
Про Младшую Мать говорю — больше восьмидесяти лет прошло, а она о своем детстве, о том, которое босиком по снегу бежало, плачет. Не ребячество ли? Наверное, ребячество. А в ребячестве — чистота.
…И от рассыпавшихся угольков белый снег черным не станет…