Долгий путь - [59]
— Вечно вы, Пинель, вылезаете вперед, все у вас не как у людей, — и он обрушил на Пинеля перекрестный огонь вопросов по всему курсу космографии и математики, которые мы учили — если такое выражение здесь уместно (хотя, впрочем, Пинель-то как раз учил) — с начала года. И когда в положенный час, после звонка, Раблон ушел, не сказав ни слова, единодушный клич «Уэст-Эта» приветствовал победу Ле Клоарека, нашу общую победу, и для вящего своего торжества мы еще добавили к нему: «На фонарь Пинеля!»
— Да нет, — сказал я. — Он был немец.
Фермер глядит на меня с недоумением. Его сын, уцелевший при разгроме «Табу», тоже. Хозяйки нет, она вышла. — Как вы сказали? — переспрашивает фермер.
Он только что заявил — он не раз перебивал рассказ сына, вставляя какое-нибудь замечание о жизни и людях вообще, — так вот, он заявил, что, мол, будь все французы такие, как ваш друг, как этот Филипп, Францию никому бы не одолеть.
— Он был немец, — поправил я, — не француз, а немец.
Мишель устало глядит на меня, видно, думает: «Когда уж он отстанет от своей дурацкой привычки ставить точки над „i“!»
— Даже не немец, — добавил я, — а еврей, немецкий еврей.
Мишель с усталым видом объяснил несколько более вразумительно, что Филиппа на самом деле звали Ганс и как это вышло, что Ганс назвался Филиппом. По правде сказать, на крестьян это произвело впечатление, они задумались, покачали головой. А я размышляю о том, что Ганс был немецкий еврей, но не хотел умереть смертью еврея, а мы вот и не знаем, как он умер. Вообще-то я видел, как умирали евреи, как тысячи евреев умирали смертью евреев, то есть только потому, что они евреи, словно считая, что быть евреем — достаточный повод, чтобы умереть такой смертью — чтобы дать себя уничтожить.
А вот как умер Ганс, мы не знаем. Кто бы ни рассказывал эту историю — историю гибели «Табу», всякий раз наступал момент, когда Ганс исчезал.
Кажется, это было на другой день — мы обшарили всю траву среди высоких деревьев, среди гигантских стволов в лесу вокруг того места, где когда-то был «Табу» и где как раз и исчез Ганс. Мишель шел впереди, гибким прутиком сбивая высокую траву. А я остановился и стал слушать лес. Хорошо бы почаще иметь время и возможность слушать лес. А я прожил целый век, не имея возможности слушать лес. Я остановился и прислушался. И меня наполнила глухая, парализующая радость — радость оттого, что я уверен в абсолютной случайности моего присутствия здесь, в том, что я здесь совершенно не нужен. Я совершенно не нужен для того, чтобы этот лес существовал и шелестел на ветру, — вот откуда во мне эта глухая радость. Мишель скрылся за деревьями — вот здесь-то и исчез Ганс. В конце концов он взял ручной пулемет — так рассказывал накануне (а может, за два дня до того) паренек с фермы. У Ганса не было времени слушать зимний ночной лес — той зимней ночью, когда разгромили «Табу», он слышал вокруг только сухой треск выстрелов. В конце концов Ганс остался один со своим ручным пулеметом, и я представляю себе, как он был доволен, что украл у эсэсовцев полную смирения смерть, на которую они его обрекли, и навязал им другую свою смерть — беспощадную, опасную для самих убийц смерть, навязал им гибельную для самих убийц смерть в той непроглядной, полной смятения ночи, когда разгромили маки «Табу».
Мишель, вернувшись, окликает меня: — Эй, что ты там делаешь? — Слушаю, — отзываюсь я.
— Что слушаешь? — спрашивает он.
— Так просто — слушаю, и все.
Перестав сбивать высокую траву, Мишель тоже прислушивается.
— Ну и что? — спрашивает он.
— Ничего.
Я подхожу к нему, он стоит, сжимая в руке гибкий прутик, которым сбивал высокую траву. Предлагаю ему сигарету. Мы курим в молчании.
— Ты не помнишь, где находился лагерь? — спрашивает Мишель. — Там, — показываю я. — Справа.
Мы продолжаем свой путь. Теперь лес безмолвствует. Лес умолк при звуке наших шагов.
— Это ты рассказывал мне про ночной поход через лес, долгий, продолжавшийся много ночей поход?
Мишель глядит на меня, озирается вокруг. Мы идем по лесу, но сейчас день и сейчас весна.
— Я не знаю, о чем ты, — говорит Мишель. — Нет, я не помню никакого ночного похода через лес, о котором я мог бы тебе рассказывать.
И он снова размашистым и точным движением принимается сбивать высокую траву. Кажется, это начинает меня бесить. Сил больше нет глядеть, как он механически, тысячу раз подряд повторяет этот жест.
— А что это был за поход? — спрашивает Мишель.
— С тех пор как этот парень рассказал нам, как они пробирались через лес в ночь разгрома «Табу», мне все кажется, что я вот-вот вспомню о каком-то другом ночном походе через лес. Это было совсем в другом месте, но где — не могу вспомнить.
— Бывает, — говорит Мишель, опять принимаясь сбивать траву.
Но тут мы выходим на опушку, где размещался партизанский лагерь, и я не успеваю сказать ему, что он меня бесит.
Мне вспоминается, что партизаны жили в землянках. Ребята вырыли глубокие траншеи и укрепили стенки досками. Доски и соломенная крыша поднимались над землей не больше чем на метр. Землянок было три, они образовывали как бы вершины невидимого треугольника, и в каждой из них могло поместиться не меньше десятка партизан. Поодаль, на краю опушки, они построили нечто вроде гаража для двух машин: легковой и грузовичка. По эту же сторону опушки стояли накрытые брезентом и замаскированные ветками бидоны с горючим. Представляю, как все это полыхало в ночь разгрома «Табу». И сейчас еще в кустах видны красноватые и серые куски жести, и деревья наполовину обуглены. Мы подходим к середине опушки, туда, где были землянки. Но лес почти стер следы жизни, которая кипела здесь три года назад, следы уже давнишней теперь смерти. В отвалах земли еще торчат концы прогнивших досок, куски железа. Но все это мало-помалу уже утрачивает человеческий облик, вернее, облик предметов, созданных рукой человека для нужд человека. Доски вновь становятся деревом, пусть прогнившим, пусть мертвым деревом — это видно, но зато деревом, вновь ускользнувшим из рук человека, вновь вернувшимся в круговорот природы, в круговорот растительной жизни и смерти. Только очень внимательный взгляд может угадать в этом железном ломе очертания котелка, жестяной кружки, складного приклада автомата «стен». Все это железо возвращается в мир минералов, к процессу обмена с перегноем, в котором оно погребено. И лес уже стирает всякий след давнишней жизни и старой, уже состарившейся смерти маки «Табу». А мы зачем-то пришли сюда тревожить следы прошлого, которое заглушают высокие травы и обвивает папоротник трепещущими и цепкими лапами.
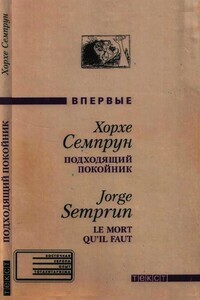
Хорхе Семпрун (р. 1923) — французский писатель и сценарист испанского происхождения, снискавший мировую известность, член Гонкуровской академии. Новая книга Семпруна автобиографична, как и написанный четыре десятилетия назад роман «Долгий путь», к которому она является своеобразным постскриптумом. Читатель проживет один день с двадцатилетним автором в Бухенвальде. В администрацию лагеря из гестапо пришел запрос о заключенном Семпруне. Для многих подобный интерес заканчивался расстрелом. Подпольная организация Бухенвальда решает уберечь Семпруна, поменяв его местами с умирающим в санитарном бараке молодым французом…

Роман «Нечаев вернулся», опубликованный в 1987 году, после громкого теракта организации «Прямое действие», стал во Франции событием, что и выразил в газете «Фигаро» критик Андре Бренкур: «Мы переживаем это „действие“ вместе с героями самой черной из серий, воображая, будто волей автора перенеслись в какой-то фантастический мир, пока вдруг не становится ясно, что это мир, в котором мы живем».
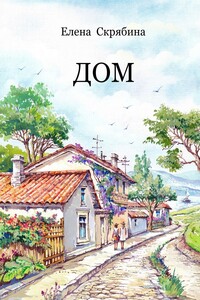
Автор много лет исследовала судьбы и творчество крымских поэтов первой половины ХХ века. Отдельный пласт — это очерки о крымском периоде жизни Марины Цветаевой. Рассказы Е. Скрябиной во многом биографичны, посвящены крымским путешествиям и встречам. Первая книга автора «Дорогами Киммерии» вышла в 2001 году в Феодосии (Издательский дом «Коктебель») и включала в себя ранние рассказы, очерки о крымских писателях и ученых. Иллюстрировали сборник петербургские художники Оксана Хейлик и Сергей Ломако.

В каждом произведении цикла — история катарсиса и любви. Вы найдёте ответы на вопросы о смысле жизни, секретах счастья, гармонии в отношениях между мужчиной и женщиной. Умение героев быть выше конфликтов, приобретать позитивный опыт, решая сложные задачи судьбы, — альтернатива насилию на страницах современной прозы. Причём читателю даётся возможность из поглотителя сюжетов стать соучастником перемен к лучшему: «Начни менять мир с самого себя!». Это первая книга в концепции оптимализма.

Перед вами книга человека, которому есть что сказать. Она написана моряком, потому — о возвращении. Мужчиной, потому — о женщинах. Современником — о людях, среди людей. Человеком, знающим цену каждому часу, прожитому на земле и на море. Значит — вдвойне. Он обладает талантом писать достоверно и зримо, просто и трогательно. Поэтому читатель становится участником событий. Перо автора заряжает энергией, хочется понять и искать тот исток, который питает человеческую душу.

Когда в Южной Дакоте происходит кровавая резня индейских племен, трехлетняя Эмили остается без матери. Путешествующий английский фотограф забирает сиротку с собой, чтобы воспитывать ее в своем особняке в Йоркшире. Девочка растет, ходит в школу, учится читать. Вся деревня полнится слухами и вопросами: откуда на самом деле взялась Эмили и какого она происхождения? Фотограф вынужден идти на уловки и дарит уже выросшей девушке неожиданный подарок — велосипед. Вскоре вылазки в отдаленные уголки приводят Эмили к открытию тайны, которая поделит всю деревню пополам.

Генерал-лейтенант Александр Александрович Боровский зачитал приказ командующего Добровольческой армии генерала от инфантерии Лавра Георгиевича Корнилова, который гласил, что прапорщик де Боде украл петуха, то есть совершил акт мародёрства, прапорщика отдать под суд, суду разобраться с данным делом и сурово наказать виновного, о выполнении — доложить.
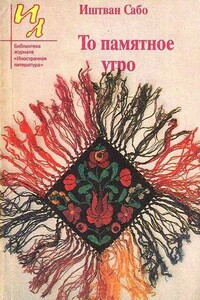
Можно попытаться найти утешение в мечтах, в мире фантазии — в особенности если начитался ковбойских романов и весь находишься под впечатлением необычайной ловкости и находчивости неуязвимого Джека из Аризоны.
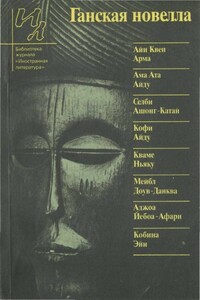
В сборник вошли рассказы молодых прозаиков Ганы, написанные в последние двадцать лет, в которых изображено противоречивое, порой полное недостатков африканское общество наших дней.

Книга составлена из рассказов 70-х годов и показывает, какие изменении претерпела настроенность черной Америки в это сложное для нее десятилетие. Скупо, но выразительно описана здесь целая галерея женских характеров.

Йожеф Лендел (1896–1975) — известный венгерский писатель, один из основателей Венгерской коммунистической партии, активный участник пролетарской революции 1919 года.После поражения Венгерской Советской Республики эмигрировал в Австрию, затем в Берлин, в 1930 году переехал в Москву.В 1938 году по ложному обвинению был арестован. Реабилитирован в 1955 году. Пройдя через все ужасы тюремного и лагерного существования, перенеся невзгоды долгих лет ссылки, Йожеф Лендел сохранил неколебимую веру в коммунистические идеалы, любовь к нашей стране и советскому народу.Рассказы сборника переносят читателя на Крайний Север и в сибирскую тайгу, вскрывают разнообразные грани человеческого характера, проявляющиеся в экстремальных условиях.
