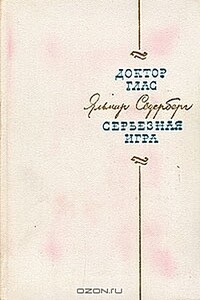Доктор Глас - [5]
Она возразила:
— Я хотела вам сказать. Я хотела открыться человеку, которого глубоко уважаю, перед которым благоговею, мне важно было, чтобы он узнал про меня все и не стал бы меня презирать.
За этим последовал целый рассказ. Тому уж около года она присутствовала однажды при нашем с пастором разговоре — ему нездоровилось, и я пришел навестить его. Речь зашла о проституции. Она помнила слово в слово все, что я говорил тогда, и теперь пересказала мне — нечто весьма примитивное и банальное: эти бедные девушки такие же люди и нуждаются в человеческом обращении, и прочая, и прочая. Но ей подобные речи были внове. С тех пор она благоговела передо мною и оттого-то и набралась храбрости открыться мне.
Случай выпал у меня из памяти, будто этого вовсе не бывало… Вот уж истинно: не знаешь, где найдешь, где потеряешь.
Итак, я пообещал нынче же переговорить с ее супругом, и она ушла. Но она забыла перчатки и зонтик, она воротилась, взяла их и убежала. Она цвела и сияла, радостная, точно ребенок, добившийся желанной игрушки, в нетерпеливом ожидании предстоящего удовольствия.
Я отправился к ним после обеда. Она его заранее подготовили; так мы уговорились. Я имел с ним разговор tete-a-tete. Физиономия у него сделалась еще тусклее обыкновенного.
— Да, да, — вздохнул он, — жена мне уже в общем-то сказала, как обстоит дело. Не могу вам выразить, до чего мне жаль ер, бедняжку. Мы так мечтали, так надеялись, что у нас когда-нибудь будет ребенок. Но раздельные спальни — нет, нет, я решительно против. Это, знаете ли, настолько не принято в нашем кругу, пойдут толки, пересуды. И я ведь, к слову сказать, уже старик.
Он слабо покашлял.
— Вы не подумайте, — сказал я, — я нисколько не сомневаюсь, что здоровье вашей супруги для вас превыше всего. И, кстати сказать, есть все резоны надеяться, что она будет совершенно здорова.
— Я молю об этом господа, — сказал. — А сколько, вы полагаете, потребуется времени?
— Пока трудно сказать. Но в любом случае я бы предписал не менее полугода полнейшего воздержания. А там посмотрим…
У него на лице есть несколько грязно-коричневых пятен; теперь они еще отчетливее проступили на бесцветной коже, а глаза точно съежились.
Он уже был однажды женат; какая досада, что она умерла, его первая супруга! У него в кабинете висит ее увеличенная фотография: сухопарая, благонравная девица, чем-то похожая на Катарину фон Бора, супружницу Лютера.
Она ему определенно подходила. Какая досада, что она умерла!
Кто же сей счастливец? С позавчерашнего дня я не уставал задавать себе этот вопрос.
Удивительно, что отгадка явилась столь быстро и что я к тому же, оказывается, знаком с сим молодым человеком, правда, весьма шапочно. Это Клас Рекке.
Да, Клас Рекке — это вам не пастор Грегориус.
Я встретил их сейчас, когда гулял. Я бесцельно брел по улицам в теплых розовеющих сумерках, брел и думал о ней, милой женщине. Я часто думаю о ней. Я забрел в пустынную боковую улочку и вдруг вижу — они навстречу. Они вышли из какого-то подъезда. Я поспешил достать носовой платок и стал сморкаться, чтобы прикрыть лицо. Излишняя предусмотрительность. Он меня, верно, и в лицо-то не помнит, а она меня не видела, она была слепая от счастья.
Я сижу и читаю написанную вчера страничку, перечитываю снова и снова, и я говорю себе: вот как, дружище, ты, стало быть, заделался сводником?
Вздор. Я избавил ее от сущего ужаса. Я чувствовал, что это необходимо сделать.
А уж как она распорядится собою — ее забота.
Ночь под Ивана Купалу. Светлая, синяя ночь. Ты запомнилась мне с поры детства и юности, как самая воздушная, самая упоительная, самая прозрачная из ночей, почему ты сегодня такая душная и тревожащая?
Я сижу у окна и думаю о своей жизни, отыскиваю причину, отчего так случилось, что пошла она совсем по иному пути, нежели у других, вовсе не по проторенным дорожкам.
Давай-ка поразмыслим.
Сейчас, проходя кладбищем, я снова наблюдал одну из тех сцен, про которые взывающие к прессе поборники морали любят говорить, что они не поддаются описанию. Нет сомнения, что сила, побуждающая людей быть объектом праведной ярости посетителей кладбищ, — сила необоримо могучая и победительная. Людей легкомысленных она толкает на всякого рода сумасбродства, порядочных же и благоразумных побуждает подвергать себя немалым лишениям и жертвам. И она заставляет женщин преступать то чувство стыдливости, пробуждение и развитие которого у девочки полагается целью воспитания из поколения в поколение, и переносить ужасные физические муки, а нередко и бросаться очертя голову в пучину позора и несчастья.
Одного меня она еще не затронула. Как это могло случиться?
Чувства мои пробудились поздно, лишь тогда, когда моя воля была уже волей мужчины. Ребенком я был весьма честолюбив. Я рано приучил себя к самоограничению, приучил себя строго различать между желанием сокровенным, устоявшимся и желанием временным, минутным порывом, к первому голосу — прислушиваться, второй — пропускать мимо ушей. Впоследствии я заметил, что свойство это в общем-то исключительно редкое, может быть, более даже редкое, нежели талант и гений, и оттого мне порой думается, что из меня, в сущности, должно было бы получиться нечто незаурядное и значительное. В годы учения я и был всегда звездой первой величины, всегда моложе всех в классе, и пятнадцать лет уже студент, а в двадцать три лиценциат медицины. Но на том дело и застопорилось. Ни дальнейшей научной работы, ни докторской диссертации. Меня с готовностью ссудили бы деньгами, в любом количестве; но я устал. У меня пропала всякая охота совершенствовать свои познания, и мне хотелось зарабатывать наконец свой хлеб. Школьническое честолюбие, алчное до хороших отметок, насытилось и отмерло, и странно — его место так никогда и не заступило честолюбие мужчины. Я объясняю это тем, что именно в ту пору я начал мыслить. Прежде мне было недосуг.

Уильям Сомерсет Моэм (1874–1965) — один из самых проницательных писателей в английской литературе XX века. Его называют «английским Мопассаном». Ведущая тема произведений Моэма — столкновение незаурядной творческой личности с обществом.Новелла «Сумка с книгами» была отклонена журналом «Космополитен» по причине «безнравственной» темы и впервые опубликована в составе одноименного сборника (1932).Собрание сочинений в девяти томах. Том 9. Издательство «Терра-Книжный клуб». Москва. 2001.Перевод с английского Н. Куняевой.

Они встретили этого мужчину, адвоката из Скенектеди, собирателя — так он сам себя называл — на корабле посреди Атлантики. За обедом он болтал без умолку, рассказывая, как, побывав в Париже, Риме, Лондоне и Москве, он привозил домой десятки тысяч редких томов, которые ему позволяла приобрести его адвокатская практика. Он без остановки рассказывал о том, как набил книгами все поместье. Он продолжал описывать, в какую кожу переплетены многие из его книг, расхваливать качество переплетов, бумаги и гарнитуры.
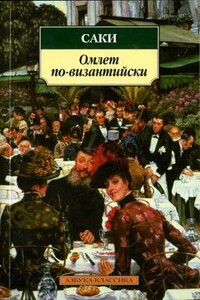
Вниманию читателей предлагается сборник рассказов английского писателя Гектора Хью Манро (1870), более известного под псевдонимом Саки (который на фарси означает «виночерпий», «кравчий» и, по-видимому, заимствован из поэзии Омара Хайяма). Эдвардианская Англия, в которой выпало жить автору, предстает на страницах его прозы в оболочке неуловимо тонкого юмора, то и дело приоткрывающего гротескные, абсурдные, порой даже мистические стороны внешне обыденного и благополучного бытия. Родившийся в Бирме и погибший во время Первой мировой войны во Франции, писатель испытывал особую любовь к России, в которой прожил около трех лет и которая стала местом действия многих его произведений.

Одноклассники поклялись встретиться спустя 50 лет в день начала занятий. Что им сказать друг другу?..
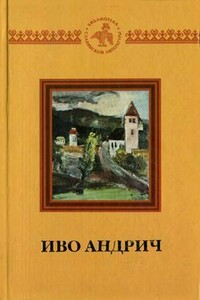
В том выдающегося югославского писателя, лауреата Нобелевской премии, Иво Андрича (1892–1975) включены самые известные его повести и рассказы, созданные между 1917 и 1962 годами, в которых глубоко и полно отразились исторические судьбы югославских народов.