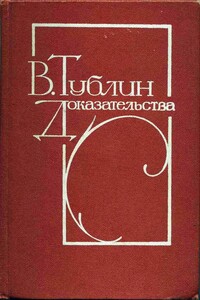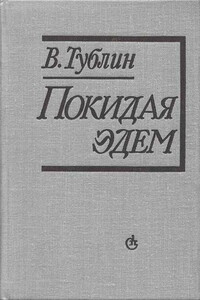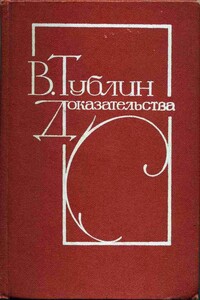Доказательства: Повести - [2]
Он уже забыл и о голоде, и о долгом, неведомом пути. Он уже забыл и о яблоках. Вот в чем, значит, основное испытание, предстоящее ему, — сумеет или нет? А яблоки были только поводом. Что яблоки! Он никогда и не сомневался, что сумеет уговорить, убедить и дракона, и сестер, и самого Атланта. Но сумеет ли он победить самого себя? Этого он не мог сейчас сказать. Этого он и знать не мог. Пока не дошло до дела, до испытания, никто не мог сказать, сумеет ли он превзойти отпущенные ему возможности, дано ли ему подняться над самим собой, превозмочь пределы человеческой природы, удастся ли в этом случае выдержать верность правилу, которым он до сих пор руководствовался в своей жизни, — делать, быть в состоянии сделать то, что делается или было когда-нибудь сделано еще кем-то, будь то обыкновенный смертный, бог или титан…
Он уже, пожалуй, и не разбирал, куда он идет; ноги сами несли его по тропе; и так, глухо бормоча, полный сомнений и готовности, он шел и шел навстречу предстоявшим ему испытаниям, с луком за спиной, палицей в руках, без страха, один, в жару и в холод.
Холод? Нет, это даже не то слово. Это просто не передать словами. Адский, просто собачий холод. Но самое странное — мне об этом много позже сказал Костя, — самое странное во всем этом было то, что никакого холода не должно было быть. Вернее, я не должен был ощущать никакого холода, потому что, сказал он, не успел он сунуть мне под мышку градусник, как ртуть бросилась вверх, как сумасшедшая, и добралась до сорока градусов раньше, чем он успел сообразить, что же происходит. Но я сам об этом судить не могу, никакой жары я не помню, а вот холод, мне кажется, я не забуду по гроб жизни, так мне было холодно, не знаю даже, как это объяснить, не просто холодно, а черт знает как, и мне все казалось, что еще немного, и у меня не останется во рту ни одного зуба — так они стучали друг о дружку. Нет, все равно не передать. Да это, наверное, ни к чему. Наверное, ни один человек — я имею в виду здорового человека — не может до конца почувствовать и понять, что там происходит с больным, и, может, это даже и правильно, что человеческий организм защищается от всего ненужного, и если вы хотите узнать, как же мне было на самом деле холодно, вам остается только ждать, пока вы тоже заболеете и вас затрясет, и зубы у вас залязгают, и вам покажется, что вас разрезали, выпотрошили, как мумию, а затем набили до самого затылка сухим льдом — тогда и вам все станет понятно. И вот еще что странно: мне кажется, что я все помнил, помнил, как все со мной было и что к чему, что я не терял над собой контроля ни на минуту и вел себя, если можно так сказать, весьма достойно, а он, Костя, говорит, что он даже испугался сначала, не спятил ли я. Потому что, говорит он, я все время нес жуткую ересь, воображая себя чуть ли не Гераклом, и все куда-то собирался, и уж во всяком случае каждые две минуты пробовал вскочить с постели и куда-то бежать. А он не давал, и тут, говорит он, мы с ним чуть было не подрались.
Этого, конечно, быть не могло. Не того, что я вскакивал или, скажем, говорил что-то, чего сам не помню, — раз Костя говорит, так оно, значит, и было, я о другом. Мы никак не могли с ним подраться. И не потому даже, что он на десять метров выше меня и на триста килограммов тяжелее. И не потому, что он выучил до чертиков разных там приемов — не каратэ, конечно, хоть он и ходит теперь в эту секцию, нет, вовсе не поэтому. А потому, что я вообще против драк — принципиально, так сказать, и это самое главное. Ну а второе, что я никогда бы не стал драться с другом, будь он хоть тысячу раз не прав, а Костя — и чем дальше, тем мне ясней, что это уже на всю жизнь, — Костя мне самый первый, самый верный друг. Но вообще я страшно не люблю мордобоя, хотя знаю ребят (и в любом классе их тысячи), которые чуть что — и лезут с кулаками друг другу в нос. Но самое-то дурацкое даже не в этом, а в том, что когда они утрут, наконец, разбитые носы и выметут штанами всю уборную (а драки у нас всегда в уборной), то тогда только они начинают по-человечески разговаривать, или, как у нас называют это, — толковать, то есть попросту возвращаются к тому состоянию, в котором пребывали до разбитых носов, так что даже и не замечают того, о чем надо бы думать с самого начала — что дракой ничего никому не доказали.
А можно ли вообще доказать что-либо дракой? Это ведь вообще глобальный вопрос. Нет, правда, я видел в жизни тысячу драк, не меньше, но так и не заметил, чтобы кто-нибудь кому-нибудь сумел доказать что-то, разбив нос.
Но это я просто так, философское отступление. Словом, не стал бы я с Костей драться, это ясно. Но для полной ясности в этом вопросе должен одно добавить. Бывает, что и я дерусь. Тут кто-нибудь может сказать, что я выламываюсь, мол, — то я не дерусь, а то дерусь. Все верно. Потому что принципиально я не дерусь. Но если и дерусь, то исключительно из-за принципа, и лезу в драку только за дело, когда ничего другого не остается, когда несправедливость, и слова не помогают. Тут уже — хочешь не хочешь — надо драться, и один раз было такое дело, в Летнем саду, когда мы с Костей дрались против четырех дураков, которые приставали к девчонкам, — или нам показалось, что приставали, — но это мы сообразили уже потом. Костя потом сказал, что я был похож на эрдельтерьера. Или точнее, сказал он, даже на фокса, потому что я маленький. Маленького роста, хочу я сказать.

Небольшая деликатно написанная повесть о душевных метаниях подростков, и все это на фоне мифов Древней Греции и первой любви.
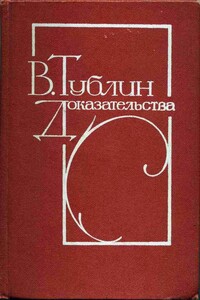
Цезарь разбил последних помпеянцев в Испании. Он на вершине успеха. Но заговорщики уже точат кинжалы…
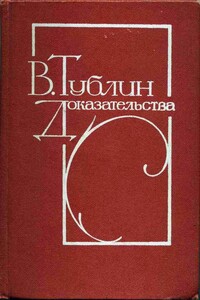
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
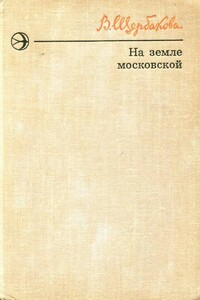
Роман московской писательницы Веры Щербаковой состоит из двух частей. Первая его половина посвящена суровому военному времени. В центре повествования — трудная повседневная жизнь советских людей в тылу, все отдавших для фронта, терпевших нужду и лишения, но с необыкновенной ясностью веривших в Победу. Прослеживая судьбы своих героев, рабочих одного из крупных заводов столицы, автор пытается ответить на вопрос, что позволило им стать такими несгибаемыми в годы суровых испытаний. Во второй части романа герои его предстают перед нами интеллектуально выросшими, отчетливо понимающими, как надо беречь мир, завоеванный в годы войны.

В сборник известного советского прозаика и очеркиста лауреата Ленинской и Государственной РСФСР имени М. Горького премий входят повесть «Депутатский запрос» и повествование в очерках «Только и всего (О времени и о себе)». Оба произведения посвящены актуальным проблемам развития российского Нечерноземья и охватывают широкий круг насущных вопросов труда, быта и досуга тружеников села.

В сборник вошли созданные в разное время публицистические эссе и очерки о людях, которых автор хорошо знал, о событиях, свидетелем и участником которых был на протяжении многих десятилетий. Изображая тружеников войны и мира, известных писателей, художников и артистов, Савва Голованивский осмысливает социальный и нравственный характер их действий и поступков.
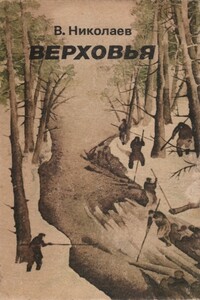
В новую книгу горьковского писателя вошли повести «Шумит Шилекша» и «Закон навигации». Произведения объединяют раздумья писателя о месте человека в жизни, о его предназначении, неразрывной связи с родиной, своим народом.
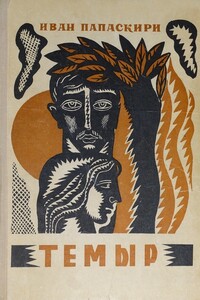
Роман «Темыр» выдающегося абхазского прозаика И.Г.Папаскири создан по горячим следам 30-х годов, отличается глубоким психологизмом. Сюжетную основу «Темыра» составляет история трогательной любви двух молодых людей - Темыра и Зины, осложненная различными обстоятельствами: отец Зины оказался убийцей родного брата Темыра. Изживший себя вековой обычай постоянно напоминает молодому горцу о долге кровной мести... Пройдя большой и сложный процесс внутренней самопеределки, Темыр становится строителем новой Абхазской деревни.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.