Дочь - [8]
Александра Толстая наряду с другими эмигрантами рассказала правду о трагедии русской интеллигенции, наглядно и в деталях воспроизвела тюремную антижизнь, раскрыла тайну существования уже в раннюю послереволюционную пору Гулага, пусть и не столь чудовищного, как сталинский, но обрекавшего человека на неволю, физические и нравственные страдания. Повествование, сотканное из множества мини–новелл, событий большой значимости и сугубо личных, охватывающее «войну» и «мир», передает дыхание, «шум и ярость» судьбоносного для огромной страны времени. Оно мозаично и вместе с тем панорамно.
Японо–американский раздел книги переносит нас совсем в другое пространство, в другие миры, В нем явственно проступают элементы путевого очерка, он может быть поставлен в один ряд с традиционными для русской литературы «Письмами русского путешественника».
У Александры Толстой зоркий взгляд, поразительная наблюдательность, непредвзятое восприятие, умение передать доселе неведомую ей действительность в многоцветий красок, с ее особенным колоритом, при этом многогранно, материально осязаемо. Образ страны возникал из картин природы, гула голосов людей различных слоев общества, с разным образом жизни, с разной психологией, религиозными верованиями, умонастроениями.
Воспоминания Александры Львовны по сути своей, конечно, художественная автобиографическая проза: она сама выступает здесь не в роли хроникера, бесстрастного регистратора фактов, а как активное действующее лицо, мыслящее и эмоциональное, со своей диалектикой души, постигающей свою жизнь и жизнь окружающих ее не фрагментарно, а как нечто целостное, в контексте эпохи. У автора своя оригинальная стилевая манера, своя поэтика, суть которой выражена в названии самой сумрачной ее книги «Проблески во тьме». Оно отражало унаследованную от великого мастера концепцию личности, изначально и извечно доброй, способной и среди «тьмы» нравственно воскреснуть, очеловечиться. Характерна глава «Латышка», где в истории просветления выдрессированной надзирательницы, неодушевленной, с «деревянным лицом, деревянным голосом, деревянными движениями», раскрывается чудо прорыва «тьмы» «проблесками» человечности. Александра Толстая не случайно ввела в свои мемуары эпизоды с солдатом, тюремным вахтером, чиновником, американским фермером, в которых вдруг пробуждается душа. Это вносит в книгу напряженность, динамизм, веру в преодоление «тьмы», зла, в силу духа.
В воспоминаниях Александры Толстой немало героев добрых помыслов и добрых дел, с которыми она встречалась дома и на чужбине. Так она утверждала реальность гуманного идеала всеобщего братства, толстовского идеала «любовной ассоциации людей».
Записки младшей дочери, отличающиеся живой, легкой, свободной манерой изложения, мастерством жанровых сцен и индивидуального портрета, богатством словесной палитры, — вне всякого сомнения, факт литературы. Испытала она себя и в собственно художественном творчестве: в 1942 году в трех номерах нью–йоркского «Нового журнала» началась публикация ее романа «Предрассветный туман», но, как явствует из редакционного сообщения: «А. Л. Толстая не успела доставить для настоящей книги очередных отрывков «Предрассветного тумана»»[22], продолжения не последовало, и полный текст его неизвестен. Начальные главы свидетельствуют, что это произведение безусловно интересно своим содержанием, избранной коллизией и типом главного героя Дмитрия Ртищева. Знание реалий эмигрантской жизни, ее проблем позволило автору высветить весь трагизм беспросветного, мнимого, эгоистического, лишенного общезначимого смысла существования изгнанника, оторванного от родины, от почвы, от своего народа. Есть основания предполагать, что прототипом Дмитрия Ртищева послужил Илья Толстой, — настолько сходны их профессиональные занятия, черты характера, внутрисемейные отношения. В романе «Предрассветный туман», пусть и незавершенном, ощутимо воспроизведена специфическая атмосфера эмигрантского бытия, тревожная, нервозная и суетная.
Феномен эмиграции как определенного общественного, нравственного и психологического явления очень занимал внимание Александры Львовны, недаром она посвятила ему целое исследование. «Большой труд, — сообщала 22 февраля 1975 года сотруднику толстовского музея А. И. Шифману, — на который потрачено 6 лет моей жизни, — «История мирового беженства», этот труд я не намерена теперь печатать» (ГМТ). Публицистика как вид словесного творчества была органична для личности с таким темпераментом, активной реакцией на все происходящее в мире и, конечно, в России. Известие о расстреле в 1932 году на Кубани тысячи казаков настолько ужаснуло Александру Толстую, что побудило ее обратиться с полным гнева и боли воззванием «Не могу молчать», призывавшим всех «проповедников любви, правды и братства… христиан, настоящих социалистов, пацифистов» «соединиться в про — тесте» против террора, насилия, истребления ни в чем не повинных людей.
«Я думал, что Ванечка, один из моих сыновей, будет продолжать мое дело на земле»[23], — произнес Лев Толстой, потрясенный неожиданной смертью на редкость одаренного семилетнего Ванечки. Продолжила же его «дело на земле» в меру сил и возможностей «дочь Саша», верная заветам отца — ненависти ко лжи, несправедливости, неравноправию, правительственному гнету, любви к свободе, житейской и духовной, к страждущим и угнетенным, любви к России.
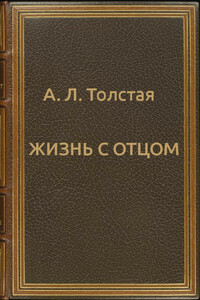
Александра Львовна Толстая (1884–1979) — младшая дочь Л.Н. Толстого, писательница, публицист, общественный деятель, создатель музея «Ясная Поляна», одна из основателей международного «Комитета помощи всем русским людям, нуждающимся в ней», названном в честь памяти отца «Толстовским фондом», личность крупная и незаурядная.В предлагаемый читателю том включены обе части воспоминаний А.Л. Толстой. В книге «Жизнь с отцом», впервые публикуемой в России, достоверно изображен быт семьи Толстых, показаны сложные внутрисемейные отношения.
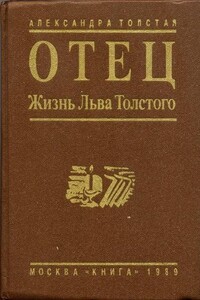
Книга написана младшей дочерью Толстого — Александрой Львовной. Она широко использует документы, письма, тексты Толстого. Однако книга ценна и личными впечатлениями Александры Львовны. С большим тактом, глубиной и пониманием пишет она о семейной драме Толстых. А. Л. Толстая сумела показать на довольно небольшом пространстве, выбрав самое главное из необозримого количества материала и фактов жизни Льва Толстого, невероятную цельность, страстный поиск истины, непрерывное движение духа писателя–творца в самом высоком смысле этого слова.Печатается по изданию: Издательство имени Чехова, Нью—Йорк, 1953 годДанное издание полностью его повторяет, сохраняя особенности орфографии и синтаксиса автора.Ещё книги о Толстом (в т. ч.

Ни один писатель не может быть равнодушен к славе. «Помню, зашел у нас со Шварцем как-то разговор о славе, — вспоминал Л. Пантелеев, — и я сказал, что никогда не искал ее, что она, вероятно, только мешала бы мне. „Ах, что ты! Что ты! — воскликнул Евгений Львович с какой-то застенчивой и вместе с тем восторженной улыбкой. — Как ты можешь так говорить! Что может быть прекраснее… Слава!!!“».

Антон Иванович Деникин — одна из важнейших и колоритных фигур отечественной истории. Отмеченный ярким полководческим талантом, он прожил нелегкую, полную драматизма жизнь, в которой отразилась сложная и противоречивая действительность России конца XIX и первой половины XX века. Его военная карьера повенчана с такими глобальными событиями, как Русско-японская, Первая мировая и Гражданская войны. Он изведал громкую славу побед и горечь поражений, тяготы эмиграции, скитаний за рубежом. В годы Второй мировой войны гитлеровцы склоняли генерала к сотрудничеству, но он ответил решительным отказом, ибо всю жизнь служил только России.Издание второе, дополненное и переработанное.Издательство и автор благодарят Государственный архив Российской Федерации за предоставленные к изданию фотоматериалы.Составитель фотоиллюстративного ряда Лидия Ивановна Петрушева.

Супруга самого молодого миллиардера в мире Марка Цукерберга – Присцилла Чан – наверняка может считаться одной из самых удачливых девушек в мире. Глядя на совместные фото пары, многие задаются вопросом: что же такого нашел Марк в своей институтской подруге? Но их союз еще раз доказывает, что доброта, участливость, внимание к окружающим и, главное, безоговорочная вера в своего мужчину куда ценнее растиражированной ненатуральной красоты. Чем же так привлекательна Присцилла Чан и почему все, кто знакомится с этой удивительной девушкой, непременно немного влюбляются в нее?

В этой книге историю своей исключительной жизни рассказывает легендарный Томи Лапид – популярнейший израильский журналист, драматург, телеведущий, руководитель крупнейшей газеты и Гостелерадио, министр юстиции, вице-премьер, лидер политической партии… Муж, отец и друг… В этой книге – его голос, его характер и его дух. Но написал ее сын Томи – Яир, сам известный журналист и телеведущий.Это очень личная история человека, спасшегося от Холокоста, обретшего новую родину и прожившего выдающуюся жизнь, и одновременно история становления Государства Израиль, свидетелем и самым активным участником которой был Томи Лапид.

Президентские выборы в Соединенных Штатах Америки всегда вызывают интерес. Но никогда результат не был столь ошеломительным. И весь мир пытается понять, что за человек сорок пятый президент Дональд Трамп?Трамп – символ перемен к лучшему для множества американцев, впавших в тоску и утративших надежду. А для всего мира его избрание – симптом кардинальных перемен в политической жизни Запада. Но чего от него ожидать? В новой книге Леонида Млечина – описание жизни и политический портрет нового хозяина Белого дома на фоне всей истории американского президентства.У Трампа руки развязаны.

В книге известного публициста и журналиста В. Чередниченко рассказывается о повседневной деятельности лидера Партии регионов Виктора Януковича, который прошел путь от председателя Донецкой облгосадминистрации до главы государства. Автор показывает, как Виктор Федорович вместе с соратниками решает вопросы, во многом определяющие развитие экономики страны, будущее ее граждан; освещает проблемы, которые обсуждаются во время встреч Президента Украины с лидерами ведущих стран мира – России, США, Германии, Китая.