До петушиного крика - [6]
Снова лязгнула кормушка, и дежурный подскочил с бачком для питья (“фанычем”). Через жестяную лейку из кормушки в бачок хлынул кипяток.
— Эй-эй, — заорал дежурный в открытую кормушку. — Тут шестьдесят человек, гони еще ведро…
Кормушка громыхнула, закрываясь, и дежурный заколотил миской в железную дверь, завопил на весь коридор («продол”):
— Недоносок козлячий, гони кипяток! зови командира! зови старшего! — он вопил и долбил, колотил железной миской в железную дверь, а Вадим продолжал размеренно глотать мутную жижицу, удивляясь сам себе, удивляясь тому, что ничего его не волнует сейчас, кроме вот этой порции и этой вот пайки хлеба.
Его волнения начались, когда отставлена была пустая миска и надо было решать, что делать с хлебом и где его запрятать и сколько оставить — опыт не давал самого правильного ответа, — пока что Вадим осторожно слизывал сахар и заодно влизывал его сладким слоем в горбушку. Вообще-то должно было быть у Вадима полновесных полбуханки хлеба, но держал он в руках такой осколок, что если это — половина, на всю было бы больно смотреть, потому и называл он эту пайку горбушкой. Время от времени в камере поднимали шум, отказывались от пищи — прибегали кумовья, их подручные, начальство повыше; кого-то уводили в карцер, кого-то вели в весовую, отмеряя при нем положенные 450 грамм, и на несколько дней пайка увеличивалась, но потом полбуханки снова превращались в горбушку, и когда уже хлеборезы наглели до невозможности, да если выпадало какое-нибудь особо нервное утро — все начиналось сначала. Матвеич призывал шуметь каждый день, но редко остальным хотелось такой нервотрепки: накормят ведь только к ужину после всех выяснений — и побеждала всеобщая уверенность, что «им ничего не докажешь», а Матвеич со своим «чтобы доказать, надо идти до конца» оставался в одиночестве. (Зато не упускал он ни одного случая, где мог шуметь сам по себе и сам за себя, где не требовалась поддержка сокамерников.)
Вадим слышал суету и ругань у двери: лязгала кормушка, прибегал кто-то из надзирателей, наконец-то снова загремело у двери ведро с кипятком, и фаныч наполнили доверху (зачем им в такую жару кипяток?), — но как бы и не слышал, распарившись совсем от еды и удовлетворившись на сегодня решением припрятать хлеб в свернутый матрац. Завершение завтрака прозвенело скинутыми стопкой у двери мисками, и теперь снова можно было раздеться до трусов — по камерным правилам пить кипяток можно было и в трусах, если, конечно, не сидишь за общаком, куда в трусах вообще ходу не было.
Насытившись, но не доверяя ощущению довольства, Вадим опасливо вслушался в себя: непереносимым мучением оставались для него неизбежные походы на унитаз («толкан») — так и не приучился он за свои долгие месяцы тюремной жизни к тому, что все это можно совершать прилюдно; а совсем тяжкими были для него спешка и толчея раннего утра — те два часа после подъема, когда шла вода. Сливная труба из раковины тянулась к толкану, и по камерным правилам при любом пользовании толканом необходимо было включать воду, откручивая кран над раковиной, чтобы вода непрерывно лилась в унитаз; из-за того же, что целый день воды не было, правила требовали определенной сдержанности в пользовании толканом в дневные часы. В этих условиях самые сильные неприятности сулило какое-нибудь расстройство желудка, что Вадим испытал уже сполна; сейчас, к счастью, избалованный в предыдущей жизни его желудок не бунтовал и вроде бы даже благосклонно принял (в качестве еды) «двойную уху». (Вадим даже хмыкнул, осознав, что тройная порция ухи для него сейчас куда желанней, чем знаменитая «тройная уха» родимого “интуристовского” ресторана в прошлой жизни.) Особо гордился Вадим тем, как удалось ему извернуться, избегнуть большей части всех этих ежедневных переживаний: он приучил себя просыпаться под утро и в тишине спящей камеры (хотя всегда было человек двадцать, таращившихся на него или скользивших почти бесплотно среди смрада, сапа и храпа), в этой почти тишине, без помех и спешки освобождать себя от необходимости утренних терзаний. А в наивно придуманной молитве, которую Вадим не забывал прошептать перед любым сном, несколько месяцев назад появился дополнительный вопль: «…и пусть желудок работает всегда как часы».
Плотный воздух камеры подрагивал, смягчая редкие движения и жесты арестантов, а поближе к окну и вовсе причудливо выгибал в плавных колебаниях лица и даже голоса. Тонкие золотистые иглы, которыми солнце проникало сквозь насверленные в наморднике отверстия, прошивали задымленную гущу, налитую внутрь каменного куба. Яркая, давящая круглосуточно на глаза лампочка не могла пробить толщу смрадного воздуха и высвечивала только самый верх, а внизу, куда стекал плотный сумрак, лишь эти игольчатые солнечные струйки пытались взмешать непригодную для дыхания густоту. Раскаленный намордник начинал свою адскую работу: плавил все, с ним соприкасающееся, в однородное марево. Это марево толчками продвигалось к двери, а навстречу ему пульсировали волны вязкой вони из угла.
— Эй, мужики, кипяток кто еще будет? — слова дежурного медленно поплыли по камере вперемежку с хрипом дыхания (слово — вздох, слово — вздох), а сам он блестящей рыбиной извивался возле фаныча. — Ну, тогда я помою… пока силы есть.
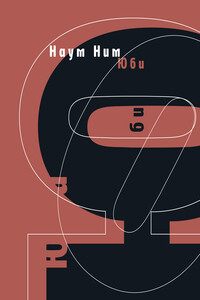
Предыдущий роман Наума Нима удостоен премии имени братьев Стругацких, он был сочтен фантастическим. Этот роман тоже своего рода фантастика – настолько он фантастически реален и точен. Известно время действия – тридцать с лишним лет назад, 28 мая 1986 года (напомним, это день приземления немецкого летчика Матиаса Руста на Васильевском спуске у Кремля). Известно место действия – бесконечно далекий от Кремля городок Богушевск в Витебской области. Известно все, что потом случилось со страной и ее жителями. Чтобы не оставалось совсем ничего неизвестного, расшифруем и название книги: «Юби» – это призыв «Люби» в фонетике одного из героев, подростка, как сказали бы теперь, с особенностями развития, а тогда именовавшегося просто придурком.

Это книга о самом очаровательном месте на свете и о многолетней жизни нашей страны, в какой-то мере определившей жизни четырех друзей — Мишки-Мешка, Тимки, Сереги и рассказчика. А может быть, это книга о жизни четырех друзей, в какой-то мере определившей жизнь нашей страны. Все в этой книге правда, и все — фантазия. “Все, что мы любим, во что мы верим, что мы помним и храним, — все это только наши фантазии. Но если поднять глаза вверх и честно повторить фантазии, в которые мы верим, а потом не забыть сказать “Господи, сделай так”, то все наши фантазии обязательно станут реальностью.

Семья — это целый мир, о котором можно слагать мифы, легенды и предания. И вот в одной семье стали появляться на свет невиданные дети. Один за одним. И все — мальчики. Автор на протяжении 15 лет вел дневник наблюдений за этой ячейкой общества. Результатом стал самодлящийся эпос, в котором быль органично переплетается с выдумкой.

Действие романа классика нидерландской литературы В. Ф. Херманса (1921–1995) происходит в мае 1940 г., в первые дни после нападения гитлеровской Германии на Нидерланды. Главный герой – прокурор, его мать – знаменитая оперная певица, брат – художник. С нападением Германии их прежней богемной жизни приходит конец. На совести героя преступление: нечаянное убийство еврейской девочки, бежавшей из Германии и вынужденной скрываться. Благодаря детективной подоплеке книга отличается напряженностью действия, сочетающейся с философскими раздумьями автора.

Жизнь Полины была похожа на сказку: обожаемая работа, родители, любимый мужчина. Но однажды всё рухнуло… Доведенная до отчаяния Полина знакомится на крыше многоэтажки со странным парнем Петей. Он работает в супермаркете, а в свободное время ходит по крышам, уговаривая девушек не совершать страшный поступок. Петя говорит, что земная жизнь временна, и жить нужно так, словно тебе дали роль в театре. Полина восхищается его хладнокровием, но она даже не представляет, кем на самом деле является Петя.

«Неконтролируемая мысль» — это сборник стихотворений и поэм о бытие, жизни и окружающем мире, содержащий в себе 51 поэтическое произведение. В каждом стихотворении заложена частица автора, которая очень точно передает состояние его души в момент написания конкретного стихотворения. Стихотворение — зеркало души, поэтому каждая его строка даёт читателю возможность понять душевное состояние поэта.

О чем этот роман? Казалось бы, это двенадцать не связанных друг с другом рассказов. Или что-то их все же объединяет? Что нас всех объединяет? Нас, русских. Водка? Кровь? Любовь! Вот, что нас всех объединяет. Несмотря на все ужасы, которые происходили в прошлом и, несомненно, произойдут в будущем. И сквозь века и сквозь столетия, одна женщина, певица поет нам эту песню. Я чувствую любовь! Поет она. И значит, любовь есть. Ты чувствуешь любовь, читатель?

События, описанные в повестях «Новомир» и «Звезда моя, вечерница», происходят в сёлах Южного Урала (Оренбуржья) в конце перестройки и начале пресловутых «реформ». Главный персонаж повести «Новомир» — пенсионер, всю жизнь проработавший механизатором, доживающий свой век в полузаброшенной нынешней деревне, но сумевший, несмотря ни на что, сохранить в себе то человеческое, что напрочь утрачено так называемыми новыми русскими. Героиня повести «Звезда моя, вечерница» встречает наконец того единственного, кого не теряла надежды найти, — свою любовь, опору, соратника по жизни, и это во времена очередной русской смуты, обрушения всего, чем жили и на что так надеялись… Новая книга известного российского прозаика, лауреата премий имени И.А. Бунина, Александра Невского, Д.Н. Мамина-Сибиряка и многих других.