Дневник читателя. Русская литература в 2007 году - [38]
Да, подзаголовок «цикл статей» формально точен. Но только формально. «Пушкин и Англия» – книга, цельность которой обеспечена не межстатейными перекличками (которые есть у любого автора и в общем мало что значат), не установкой на исчерпанность (ее нет и в помине; весомые наблюдения над байронизмами «Евгения Онегина» спрятаны во вступлении, а английский фон «Бориса Годунова» или «Домика в Коломне» только назван), но единством сосредоточенного взгляда и выверенного тона. Так думают и пишут о том, что тревожит всерьез. Вальтера Скотта надо читать не только отрокам (да хоть бы они читали!), Байрона – не только студентам-гуманитариям перед экзаменом, книгу Долинина – не только пушкинистам.
27 июня
Дальнейшее – молчанье
К столетию Варлама Тихоновича Шаламова. 18 июня (1 июля) 1907 – 17 января 1982
Читать Варлама Шаламова страшно, не читать – стыдно, а обсуждать – стыдно втройне.
На этом стоило бы поставить точку и молча помянуть мученика, проведшего долгие годы в аду и сумевшего воплотить в слове запредельный и в сущности непостижимый опыт. Не только свой.
Память о Шаламове – память о миллионах людей. Безмерно униженных, изувеченных голодом, холодом, побоями, каторжным трудом. «Расчеловеченных». Сведенных на нет еще до физического конца. Убитых. Умерших в камерах, кабинетах следователей, тюремных подвалах, вагонзаках, пароходных трюмах, на пересылочных пунктах, в лагерных зонах, в забоях, на лесоповале. Уничтоженных расстрельщиками, конвоирами, бригадирами, блатарями. Тех, кто получил «высшую меру» официально, и тех, кому формально был предоставлен издевательский шанс остаться живым и вернуться в «нормальный» мир. Тех, кто вопреки всем обыденным представлением и благодаря счастливой игре равнодушного случая выжил, но навсегда остался зэком. Тех, кого лагерное небытие, вроде бы выпустившее раба из своих когтей, продолжало мучить после освобождения и, наглумившись вволю, добивало – через несколько «внезонных» дней, месяцев или лет. Тех, кто стремился навсегда забыть ледяной мрак – физические мучения, эрозию души и ума, собственную причастность абсолютному злу. Тех, кто пытался начать новую жизнь и отыскивал некие смыслы в том, что случилось с ними по ту сторону колючей проволоки. Тех, кто свидетельствовал с разной мерой достоверности, искренности, самообмана. Тех, кто молчал.
Подходить к «Колымским рассказам» и другим созданиям Шаламова с религиозными, философскими, литературными мерами нельзя. Просто нельзя. По крайней мере, нам. Нас там не было.
Не так уж трудно уразуметь, что любые попытки «оспорить» Шаламова, поймать его на «противоречиях» (а они видны невооруженным глазом), скорректировать его «категоричность», выдвинув очень понятные гуманистические или богословские аргументы, – дело бессмысленное и безответственное. Солженицын, чье право на несогласие с главным страшным жизненным чувством Шаламова, оправдано его собственным лагерным опытом, спорит с автором «Колымских рассказов». Но совсем не с той страстью, что кипит в шаламовских приговорах Солженицыну, якобы не знавшему настоящих лагерей и потому «приукрасившему» бытие зэков. Солженицын не хуже своих присяжных недоброжелателей понимает, что опыт Шаламова дольше и страшнее. Не худо бы, однако, и азартным «защитникам» Шаламова, не нюхавшим тюрьмы и лагеря вовсе, почерпнувшим свое знание об их беспросветной ночи из книг (не только свидетельских, но и «концептуальных»), использующим чужую боль, муку, отчаяние как эффективные орудия в «теоретической» дискуссии и упивающимся идеей о ничтожестве человека, – не худо бы и им понять, сколь недостойное дело – считать (соизмерять) лагерные сроки, выпавшие двум писателям, и на основании этих «данных» формулировать чаемые выводы. Страдание вообще плохо поддается количественным оценкам. Абсолютное страдание (а его чаша и была испита всеми жертвами коммунистической нежити) – не подлежит им вовсе.
Шаламов был убежден, что «лагерь – мироподобен. В нем нет ничего, чего не было бы на воле». Шаламов с глубокой скорбью думал о человеке, из которого – как свидетельствовал его опыт – можно вынуть и выбить все человеческое. Шаламов верил, что ХХ век покончил с искусством и литературой, а его собственная проза строится на качественно новых началах, единственно возможных и для будущей – совершенно иной – словесности. Всякий читатель, будь то литератор, мыслитель, политик или «обычный человек», волен принимать или не принимать эти безжалостные положения. Но тем, кто принимает их вполне (скорее все же – артистично имитирует таковое приятие), все-таки не худо бы, во-первых, помнить, какой ценой шаламовские убеждения оплачены, а во-вторых – додумывать их до конца. То есть выписывать не подлежащий обжалованию приговор не только мирозданию, человеку вообще, России, ХХ веку, «архаичной лжи» религии, философии, искусству и словесности, но и самому себе. Что – если быть последовательным – плохо сочетается с сооружением метафизических доктрин и литературных манифестов. Вернее – совсем не сочетается. Как, впрочем, с любым видом деятельности, включая создание семьи и продолжение человеческого рода.
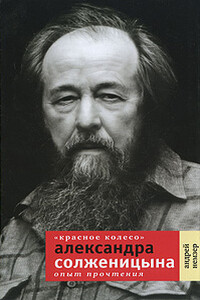
В книге известного критика и историка литературы, профессора кафедры словесности Государственного университета – Высшей школы экономики Андрея Немзера подробно анализируется и интерпретируется заветный труд Александра Солженицына – эпопея «Красное Колесо». Медленно читая все четыре Узла, обращая внимание на особенности поэтики каждого из них, автор стремится не упустить из виду целое завершенного и совершенного солженицынского эпоса. Пристальное внимание уделено композиции, сюжетостроению, системе символических лейтмотивов.

Книгу ординарного профессора Национального исследовательского университета – Высшей школы экономики (Факультет филологии) Андрея Немзера составили очерки истории русской словесности конца XVIII–XX вв. Как юношеские беседы Пушкина, Дельвига и Кюхельбекера сказались (или не сказались) в их зрелых свершениях? Кого подразумевал Гоголь под путешественником, похвалившим миргородские бублики? Что думал о легендарном прошлом Лермонтов? Над кем смеялся и чему радовался А. К. Толстой? Почему сегодня так много ставят Островского? Каково место Блока в истории русской поэзии? Почему и как Тынянов пришел к роману «Пушкин» и о чем повествует эта книга? Какие смыслы таятся в названии романа Солженицына «В круге первом»? Это далеко не полный перечень вопросов, на которые пытается ответить автор.
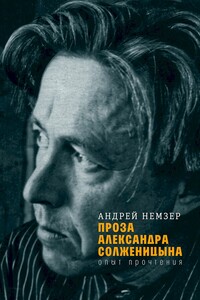
При глубинном смысловом единстве проза Александра Солженицына (1918–2008) отличается удивительным поэтическим разнообразием. Это почувствовали в начале 1960-х годов читатели первых опубликованных рассказов нежданно явившегося великого, по-настоящему нового писателя: за «Одним днем Ивана Денисовича» последовали решительно несхожие с ним «Случай на станции Кочетовка» и «Матрёнин двор». Всякий раз новые художественные решения были явлены романом «В круге первом» и повестью «Раковый корпус», «крохотками» и «опытом художественного исследования» «Архипелаг ГУЛАГ».

Хотя со дня кончины Вадима Эразмовича Вацуро (30 ноября 1935 — 31 января 2000) прошло лишь восемь лет, в области осмысления и популяризации его наследия сделано совсем немало.

Книгу ординарного профессора Национального исследовательского университета – Высшей школы экономики (Факультет филологии) Андрея Немзера составили очерки истории русской словесности конца XVIII–XX вв. Как юношеские беседы Пушкина, Дельвига и Кюхельбекера сказались (или не сказались) в их зрелых свершениях? Кого подразумевал Гоголь под путешественником, похвалившим миргородские бублики? Что думал о легендарном прошлом Лермонтов? Над кем смеялся и чему радовался А. К. Толстой? Почему сегодня так много ставят Островского? Каково место Блока в истории русской поэзии? Почему и как Тынянов пришел к роману «Пушкин» и о чем повествует эта книга? Какие смыслы таятся в названии романа Солженицына «В круге первом»? Это далеко не полный перечень вопросов, на которые пытается ответить автор.
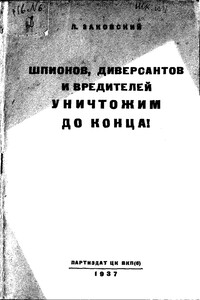
В этой работе мы познакомим читателя с рядом поучительных приемов разведки в прошлом, особенно с современными приемами иностранных разведок и их троцкистско-бухаринской агентуры.Об автореЛеонид Михайлович Заковский (настоящее имя Генрих Эрнестович Штубис, латыш. Henriks Štubis, 1894 — 29 августа 1938) — деятель советских органов госбезопасности, комиссар государственной безопасности 1 ранга.В марте 1938 года был снят с поста начальника Московского управления НКВД и назначен начальником треста Камлесосплав.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Как в конце XX века мог рухнуть великий Советский Союз, до сих пор, спустя полтора десятка лет, не укладывается в головах ни ярых русофобов, ни патриотов. Но предчувствия, что стране грозит катастрофа, появились еще в 60–70-е годы. Уже тогда разгорались нешуточные баталии прежде всего в литературной среде – между многочисленными либералами, в основном евреями, и горсткой государственников. На гребне той борьбы были наши замечательные писатели, художники, ученые, артисты. Многих из них уже нет, но и сейчас в строю Михаил Лобанов, Юрий Бондарев, Михаил Алексеев, Василий Белов, Валентин Распутин, Сергей Семанов… В этом ряду поэт и публицист Станислав Куняев.

Статья посвящена положению словаков в Австро-Венгерской империи, и расстрелу в октябре 1907 года, жандармами, местных жителей в словацком селении Чернова близ Ружомберока…

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
