Диана - [2]
Вот раздались по коридору её знакомые шаги, её голос, и Александра Петровна вошла в комнату – свежая от весеннего холода, разрумянившаяся.
С приветливой улыбкой она спросила:
– Странный у вас какой вид!.. Что с вами?..
Он вдруг выпалил с видом отчаянной решимости:
– У меня к вам просьба.
– Про-о-о-сьба?.. – протянула она, садясь, – вот как!.. Очень рада, – и взглянула на него с недоумением.
Он смотрел куда-то в угол…
– Вы не можете сомневаться в моём уважении… Но мне нужна натурщица… Для искусства… согласитесь… Я знаю, – вам это будет противно, неловко… – Но, ведь, мой взгляд не оскорбит вас… – Я – художник… это же для искусства!..
Он чувствовал, что начинает путаться, что в груди не хватает воздуха, и что не может отвести взгляд от угла, он чувствовал, что она вспыхнула, что она переживает душевную муку… Он жалел, что посмел говорить ей об «этом».
Она горько усмехнулась:
– Для искусства… как это громко сказано!.. Для ваших заблуждений, бредней, – вот для чего это нужно…
Он вдруг подбодрился и посмотрел ей прямо в глаза:
– Пусть для бредней… Да, я брежу наяву… Мне не достаёт только модели, чтобы вылепить из глины мою мечту… Но если я оскорбил вас, – простите…
Он встал с намерением уйти.
– Извольте, г-н художник, – я готова послужить вам моделью, – сказала вдруг она, – когда прикажете?..
Он не верил своим ушам.
– Вы шутите?..
– Нисколько, – я согласна.
– Александра Петровна… Как мне благодарить вас?..
– Оставьте фразы… Когда вам нужно, чтобы я…
Он боялся, что она передумает. – Лишь бы один раз согласилась – тогда эта неловкость пропадёт.
– Если позволите, – я сначала сделаю эскиз карандашом, – это можно сейчас…
Она встала, заперла дверь на ключ и пошла за ширму. Через несколько мгновений она стояла перед ним, как натурщица. – Но какое это было разочарование!..
Ничего классического в её формах, с детства изуродованных корсетом; – в одну секунду его взгляд определил каждый недостаток её фигуры… Она стояла, разрумянившаяся от стыда перед мужчиной, – а он готов был провалиться сквозь землю…
Он схватил со стены её пальто и накинул на её плечи.
– Александра Петровна, простите… Вы не годитесь для модели… Тем лучше, может быть, для нас обоих… Но, клянусь вам, – я никогда не забуду… Вашей жертвы…
– Не гожусь?.. Вот видите, – сказала она уже за ширмой, одеваясь. – Вам нужно Фрину… Ах, вы, Пракситель!..
Ни тени горечи, обиды не заметил он в её голосе. Однако он не стал ждать, пока она оденется.
– Александра Петровна, – я так взволнован… – сказал он дрожавшим от смущения голосом. – До завтра!..
И он ушёл.
Рябов куда-то исчез из Петербурга.
Прошло три года.
К старому смотрителю Евгениевской лечебницы для психических больных приехала погостить его племянница, женщина-врач Александра Петровна Соколовская. Теперь это была довольно полная румяная девушка с густыми волосами и пытливым, часто насмешливым взглядом коричневых глаз, смотревших сквозь пенсне.
Смотритель Иван Максимыч Думнов, продолжая завтракать, только что отдал служителю необходимые распоряжения насчёт буйных больных, при чём настрого повторил приказание: «Никаких насилий!.. Не сметь!.. Будьте ласковы!..» и, отпустив служителя, поднял рюмку мадеры, чокнулся с доктором Кудриным и сказал:
– За твоё здоровье, племянница, – спасибо, что навестила одинокого старика – дядю. Да не отложишь ли свой отлёт за границу?.. Авось, успеешь…
– Нет, дядя, через недельку нужно ехать… Надеюсь, за неделю надоем вам своей болтовнёй… Вот вы покажите-ка мне вашу лечебницу…
– Н-ну… это вот проси доктора.
Кудрин поспешил сказать:
– Никого не нужно просить… Мы с вами, Александра Петровна, всё осмотрим. Объектов у нас много: есть мания, аменция, меланхолия, есть паранойя, гебефрения, идиотизм, кретинизм, – с удовольствием перечислял доктор, – есть круговое помешательство, есть нравственное помешательство. Увидите любопытные случаи периодических психозов. Есть интересные случаи психозов неврастенических… навязчивые идеи… Всё я вам покажу… А пока, – до свидания, – я должен обходить палаты… Иван Максимыч, а что Рябов, переведён в другую комнату? Я вас вчера просил…
– Переведён и уже он успел на стене сделать эскиз… В восторге, что белые, чистые стены…
– Какой это Рябов? – спросила дядю Александра Петровна, когда ушёл доктор, – я знала одного Рябова… скульптора…
– Он самый, – сказал Иван Максимыч.
– Как он к вам попал?.. – взволновалась Александра Петровна, – давно?..
– Да уж с полгода… История его вот какая. Скитался он где-то в Малороссии. Раз как-то отдыхал под кустиком на берегу реки, на окраине городка и увидел купавшихся девушек; одна из них его поразила красотой своей фигуры. Да и лицом она красавица, – ты её можешь увидеть: она – его жена, довольно часто его навещает с маленьким сынишкой; смотреть только на них тяжело, когда они около этого сумасшедшего… Ну так вот, – подождал он, пока оделись купальщицы, да пошёл за ними на приличном расстоянии… Узнал, где живёт и кто такая очаровавшая его девушка, остался в этом городке… Ну, как он добился того, что понравился ей, и что поженились они, – этого мне неизвестно. А вот знаю, что зажили они очень счастливо, но только жена долго не соглашалась служить ему моделью. Наконец, – потому ли, что он её убедил или просто из любви к мужу, – стала она позировать, – понимаешь, – безо всего, и принялся он из мрамора резать фигуру. Не знаю опять-таки, что ему мешало, – работа шла медленно, а между тем жена его готовилась быть матерью, и фигура её стала меняться; девственная эта прелесть пропала, а супруг-художник не хотел верить своим глазам. Ему нужно было, чтобы красота форм его жены была такая же прочная, как его мрамор. А красавица мраморная была уже почти совсем готова… Как-то он сличал – сличал свой мрамор с фигурою жены, – да как расхохочется… Припадок с ним сделался. Вообще… свихнулся… Даём ему возможность здесь и лепить, и рисовать… Но он предпочитает делать углём эскизы прямо на стене… И всё одну и ту же фигуру женщины… Во всех поворотах. Ты думаешь, – фигуру своей жены? Нет, – говорят, это – фигура «Дианы» из Эрмитажа… Как измажет все стены, – сейчас же требует, чтобы его перевели в другую комнату, где стены белые… Его все любят, – он такой тихий, всегда приветливый…
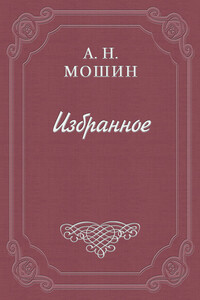
«Молодая женщина с бледным красивым лицом старалась заглянуть в глаза мужа. На него всегда хорошо, ободряюще действовали подобные её речи. Но он теперь только ниже опустил голову. Она неслышно вздохнула, позвала резвившихся оборванных двух детишек, ушла с ними в кухню и тихо закрыла дверь…».
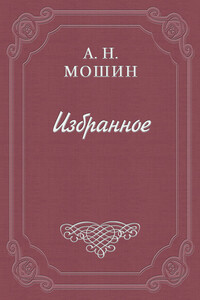
«Он верил доктору и окружающим, которые все говорили; что он скоро поправится; он не знал, что дни его сочтены. Его молодое чахоточное лицо с большими умными глазами почти всегда казалось весёлым, и только при душивших приступах кашля он морщился страдальчески…».
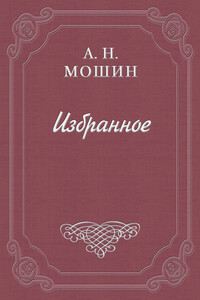
«Речка Соломинка такая маленькая, что даже не значится на географических картах; мелководная, она местами кажется не больше ручья и весело журчит меж камней, играя на солнце серебристыми струйками; но там, где она делает поворот к Даниловской роще, там глубокий-глубокий омут…».
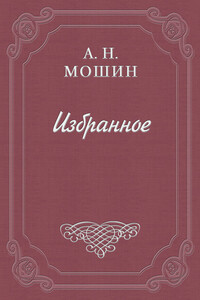
«У окна гастрономического магазина, на Невском проспекте, стоял полный, небольшого роста господин с седыми усами, в весеннем пальто, по сезону, и в котелке; сквозь огромное зеркальное стекло смотрел он с сосредоточенным видом на выставленные гастрономические диковинки и выбирал. Наконец, он решил что купить, повернулся, чтобы войти в магазин, и вдруг увидал молодого человека, который ему поклонился, снимая мягкую плюшевую шляпу…».
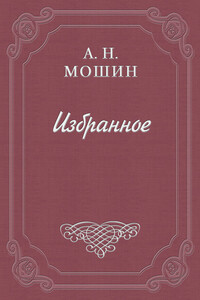
«Когда накопилось у Вахряка деньжонок порядочно, попутал его лукавый – в рост деньги отдавать по мелочи. Пошла про его деньги молва. И вышел с ним такой случай…».

«Тяжёлым гнётом ложилось на душу это множество наносных, искажённых слов в речи простого русского человека. Я понял, что Илья имеет пристрастие к мудрёным словам, которые с завистью ловит и старается запомнить, искажая и понимая их по своему и очень гордится тем, что он знает мудрёные слова…».
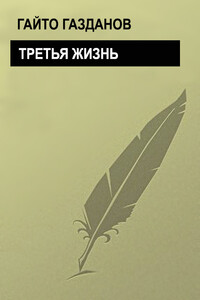
Рассказ приоткрывает «окно» в напряженную психологическую жизнь писателя. Эмоциональная неуравновешенность, умственные потрясения, грань близкого безумия, душевная болезнь — постоянные его темы («Возвращение Будды», «Пробуждение», фрагменты в «Вечере у Клэр» и др.). Этот небольшой рассказ — своего рода портрет художника, переходящего границу между «просто человеком» и поэтом; загадочный женский образ, возникающий в воображении героя, — это Муза или символ притягательной силы искусства, творчества. Впервые — Современные записки.
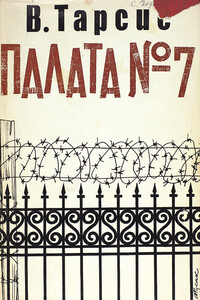
Валерий Тарсис — литературный критик, писатель и переводчик. В 1960-м году он переслал английскому издателю рукопись «Сказание о синей мухе», в которой едко критиковалась жизнь в хрущевской России. Этот текст вышел в октябре 1962 года. В августе 1962 года Тарсис был арестован и помещен в московскую психиатрическую больницу имени Кащенко. «Палата № 7» представляет собой отчет о том, что происходило в «лечебнице для душевнобольных».
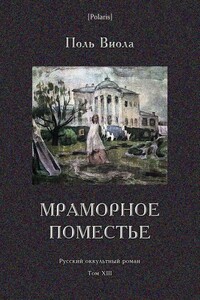
Оборотничество, ликантропия, явления призраков из потустороннего мира, круговорот душ и диктат рока — таковы темы мистическо-фантастических произведений Поля Виолы, разворачивающихся на фоне странных «помещичьих гнезд» Полесья. Под псевдонимом «Поль Виола» (Paul Viola) в печати выступал киевский поэт, прозаик и переводчик П. Д. Пихно (1880–1919). Его рассказ «Волчица» и повесть «Мраморное поместье», вошедшие в настоящую книгу, переиздаются впервые.
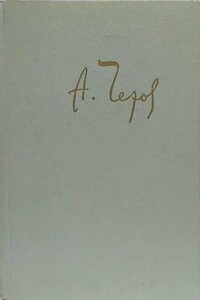
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
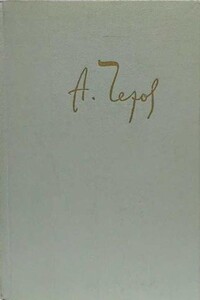
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
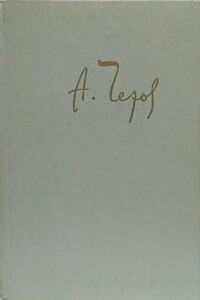
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.