Девять работ - [7]
Жизнь князя Мышкина дана в эпизоде только затем, чтобы символически представить ее бессмертность. Его жизнь поистине не может прерваться, так же или даже меньше, чем сама жизнь природы, с которой его соединяют глубинные связи. Природа, возможно, вечна, а жизнь князя – совершенно точно бессмертна, и это следует понимать в сокровенном, духовном смысле. Его жизнь и жизнь всех, кто попадает в окружающее его гравитационное поле. Бессмертная жизнь – не вечная жизнь природы, какими бы близкими они ни казались, ибо в понятии вечности снимается понятие бесконечности, в бессмертии же она обретает свой полный блеск. Бессмертная жизнь, свидетельством которой является этот роман, – ни в какой мере не бессмертие в обычном смысле. Ведь в нем как раз жизнь конечна, бессмертны же плоть, сила, личность, дух в их различных вариациях. Так Гёте говорил о бессмертии действующего человека в разговоре с Эккерманом, полагая, что природа обязана предоставить нам новое поле действия после того, как мы лишаемся его на земле. Все это бесконечно далеко от бессмертия жизни, от той жизни, которая бесконечно продвигает свое бессмертие в чувстве и которой бессмертие дает форму. И речь здесь идет не о продолжительности. Но какая тогда жизнь бесконечна, если не жизнь природы и не жизнь личности? Напротив, о князе Мышкине можно сказать, что его личность теряется в его жизни, подобно тому как цветок – в своем аромате или звезда – в своем блеске. Бессмертная жизнь незабываема, это признак, по которому ее можно опознать. Это жизнь, которую следовало бы хранить от забвения, хотя она не оставила ни памятника, ни памяти о себе, даже, быть может, никакого свидетельства. Она не может быть забыта. Эта жизнь вроде бы и без оболочки и формы остается непреходящей. «Незабываемое» значит по своему смыслу больше, чем просто, что мы не можем что-то забыть; это обозначение указывает на нечто в сущности самого незабываемого, на то, благодаря чему оно таковым является. Даже беспамятство князя в его последующей болезни – символ незабвенности его жизни; потому что это только кажется, будто она ушла в пучину его памяти, из которой нет возврата. Другие люди навещают его. Краткий эпилог романа оставляет на всех персонажах вечную печать этой жизни, которой они были причастны, сами не зная, каким образом.
Чистым же выражением жизни в ее бессмертности является слово «молодость». Вот о чем великая жалоба Достоевского в этой книге: крушение порыва юности. Ее жизнь остается бессмертной, но она теряется в собственном свете: «идиот». Достоевский сокрушается о том, что Россия – ведь эти люди несут в себе ее молодое сердце – не может сохранить в себе, впитать в себя свою собственную бессмертную жизнь. Она оказывается на чужой стороне, она ускользает за ее границы и растворяется в Европе, в этой ветреной Европе. Подобно тому как в своих политических взглядах Достоевский постоянно объявляет возрождение через чистую народность последней надеждой, так и в этой книге он видит в ребенке единственное спасение для молодых людей и их страны. Это было бы ясно уже из романа, в котором фигуры Коли и князя, являющегося по сути ребенком, оказываются самыми чистыми, даже если бы Достоевский не представил в «Братьях Карамазовых» безграничную спасительную силу детской жизни. Разрушенное детство – вот боль этой молодости, потому что именно нарушенное детство русского человека и русской земли парализует ее силу. У Достоевского постоянно чувствуешь, что благородное развитие человеческой жизни из жизни народа берет начало только в душе ребенка. В отсутствии детского языка речь героев Достоевского словно распадается, и прежде всего женские фигуры этого романа – Лизавета Прокофьевна, Аглая и Настасья Филипповна – обуреваемы необузданным томлением по детству – пользуясь современным языком, это можно назвать истерией. Весь ход действий книги может быть уподоблен огромному провалу кратера при извержении вулкана. В отсутствие природы и детства человеческое оказывается достижимым только в катастрофе самоуничтожения. Связь человеческой жизни с живущим вплоть до самой его гибели, неизмеримая пропасть кратера, из которого однажды могут подняться могучие силы человеческого величия, являются надеждой русского народа.
Неаполь
Очерк о Неаполе был опубликован в 1925 году во frankfurter Zeitung. Авторами при этом значились Вальтер Беньямин и Анна (Ася) Лацис. Вопрос о реальном авторстве остается открытым и вряд ли уже будет решен с достаточной определенностью. Сама Лацис в поздних воспоминаниях утверждала, что писали они вместе. Т. Адорно полагал, что текст полностью принадлежит Беньямину. Судя по языку, это именно так. Лацис играла скорее роль вдохновителя, недооценивать которую также не стоит. Не случайно же Беньямин посвятил ей свою книжечку «Улица с односторонним движением», которая была важной вехой на его творческом пути. Очерк «Неаполь» не только стал первым в ряду очерков Беньямина о городах (следующим был очерк «Москва»; примечательно, что, познакомившись с Москвой, Беньямин назвал ее северным Неаполем), но и ознаменовал существенный общий сдвиг в его работе: это первый опыт описания сложной реальности через коллаж отдельных жизненных деталей, движения к сущности от явлений, часто воспринимаемых как незначимые, поверхностные.

Вальтер Беньямин начал писать «Улицу с односторонним движением» в 1924 году как «книжечку для друзей» (plaquette). Она вышла в свет в 1928-м в издательстве «Rowohlt» параллельно с важнейшим из законченных трудов Беньямина – «Происхождением немецкой барочной драмы», и посвящена Асе Лацис (1891–1979) – латвийскому режиссеру и актрисе, с которой Беньямин познакомился на Капри в 1924 году. Назначение беньяминовских образов – заставить заговорить вещи, разъяснить сны, увидеть/показать то, в чем автору/читателю прежде было отказано.

Предисловие, составление, перевод и примечания С. А. РомашкоРедактор Ю. А. Здоровов Художник Е. А. Михельсон© Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1972- 1992© Составление, перевод на русский язык, художественное оформление и примечания издательство «МЕДИУМ», 1996 г.

В этой небольшой книге собрано практически все, что Вальтер Беньямин написал о Кафке. У людей, знавших Беньямина, не возникало сомнений, что Кафка – это «его» автор (подобно Прусту или Бодлеру). Занятия Кафкой проходят через всю творческую деятельность мыслителя, и это притяжение вряд ли можно считать случайным. В литературе уже отмечалось, что Беньямин – по большей части скорее подсознательно – видел в Кафке родственную душу, нащупывая в его произведениях мотивы, близкие ему самому, и прикладывая к творчеству писателя определения, которые в той или иной степени могут быть использованы и при характеристике самого исследователя.

«Эта проза входит в число произведений Беньямина о начальном периоде эпохи модерна, над историей которого он трудился последние пятнадцать лет своей жизни, и представляет собой попытку писателя противопоставить нечто личное массивам материалов, уже собранных им для очерка о парижских уличных пассажах. Исторические архетипы, которые Беньямин в этом очерке намеревался вывести из социально-прагматического и философского генезиса, неожиданно ярко выступили в "берлинской" книжке, проникнутой непосредственностью воспоминаний и скорбью о том невозвратимом, утраченном навсегда, что стало для автора аллегорией заката его собственной жизни» (Теодор Адорно).

Вальтер Беньямин (1892–1940) – фигура примечательная даже для необычайного разнообразия немецкой интеллектуальной культуры XX века. Начав с исследований, посвященных немецкому романтизму, Гёте и театру эпохи барокко, он занялся затем поисками закономерностей развития культуры, стремясь идти от конкретных, осязаемых явлений человеческой жизни, нередко совершенно простых и обыденных. Комедии Чаплина, детские книги, бульварные газеты, старые фотографии или парижские пассажи – все становилось у него поводом для размышлений о том, как устроена культура.

Целый ряд понятий и образов выдающегося немецкого критика XX века В. Беньямина (1892–1940), размышляющего о литературе и истории, политике и эстетике, капитализме и фашизме, проституции и меланхолии, парижских денди и тряпичниках, социалистах и фланерах, восходят к поэтическому и критическому наследию величайшего французского поэта XIX столетия Ш. Бодлера (1821–1867), к тому «критическому героизму» поэта, который приписывал ему критик и который во многих отношениях отличал его собственную критическую позицию.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Лешек Колаковский (1927-2009) философ, историк философии, занимающийся также философией культуры и религии и историей идеи. Профессор Варшавского университета, уволенный в 1968 г. и принужденный к эмиграции. Преподавал в McGill University в Монреале, в University of California в Беркли, в Йельском университете в Нью-Хевен, в Чикагском университете. С 1970 года живет и работает в Оксфорде. Является членом нескольких европейских и американских академий и лауреатом многочисленных премий (Friedenpreis des Deutschen Buchhandels, Praemium Erasmianum, Jefferson Award, премии Польского ПЕН-клуба, Prix Tocqueville). В книгу вошли его работы литературного характера: цикл эссе на библейские темы "Семнадцать "или"", эссе "О справедливости", "О терпимости" и др.

Ключевой вопрос этой книги: как выглядит XX столетие, если отсчитывать его с 1945 года – момента начала глобализации, разделения мира на Восточный и Западный блоки, Нюрнбергского процесса и атомного взрыва в Хиросиме? Авторский взгляд охватывает все континенты и прослеживает те общие гуманитарные процессы, которые протекали в странах, вовлеченных и не вовлеченных во Вторую мировую войну. Гумбрехт считает, что у современного человека изменилось восприятие времени, он больше не может существовать в парадигме прогресса, движения вперед и ухода минувшего в прошлое.
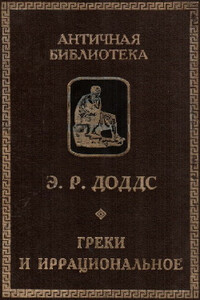
Книга современного английского филолога-классика Эрика Робертсона Доддса "Греки и иррациональное" (1949) стремится развеять миф об исключительной рациональности древних греков; опираясь на примеры из сочинений древнегреческих историков, философов, поэтов, она показывает огромное значение иррациональных моментов в жизни античного человека. Автор исследует отношение греков к феномену сновидений, анализирует различные виды "неистовства", известные древним людям, проводит смелую связь между греческой культурой и северным шаманизмом, и т.

В книге представлен результат совместного труда группы ученых из Беларуси, Болгарии, Германии, Италии, России, США, Украины и Узбекистана, предпринявших попытку разработать исследовательскую оптику, позволяющую анализировать реакцию представителя академического сообщества на слом эволюционного движения истории – «экзистенциальный жест» гуманитария в рушащемся мире. Судьбы представителей российского академического сообщества первой трети XX столетия представляют для такого исследования особый интерес.Каждый из описанных «кейсов» – реализация выбора конкретного человека в ситуации, когда нет ни рецептов, ни гарантий, ни даже готового способа интерпретации происходящего.Книга адресована историкам гуманитарной мысли, студентам и аспирантам философских, исторических и филологических факультетов.

В своем исследовании автор доказывает, что моральная доктрина Спинозы, изложенная им в его главном сочинении «Этика», представляет собой пример соединения общефилософского взгляда на мир с детальным анализом феноменов нравственной жизни человека. Реализованный в практической философии Спинозы синтез этики и метафизики предполагает, что определяющим и превалирующим в моральном дискурсе является учение о первичных основаниях бытия. Именно метафизика выстраивает ценностную иерархию универсума и определяет его основные мировоззренческие приоритеты; она же конструирует и телеологию моральной жизни.

Провокационное объяснение того, почему постмодернизм был самым энергичным интеллектуальным движением XX века. Философ Стивен Хикс исследует европейскую мысль от Руссо до Фуко, чтобы проследить путь релятивистских идей от их зарождения до апогея во второй половине прошлого столетия. «Объясняя постмодернизм» – это полемичная история, дающая свежий взгляд на дебаты о политической корректности, мультикультурализме и будущем либеральной демократии, а также рассказывает нам о том, как прогрессивные левые, смотрящие в будущее с оптимизмом, превратились в апологетов антинаучности и цинизма, и почему их влияние все еще велико в среде современных философов.

«Совершенное преступление» – это возвращение к теме «Симулякров и симуляции» спустя 15 лет, когда предсказанная Бодрийяром гиперреальность воплотилась в жизнь под названием виртуальной реальности, а с разнообразными симулякрами и симуляцией столкнулся буквально каждый. Но что при этом стало с реальностью? Она исчезла. И не просто исчезла, а, как заявляет автор, ее убили. Убийство реальности – это и есть совершенное преступление. Расследованию этого убийства, его причин и следствий, посвящен этот захватывающий философский детектив, ставший самой переводимой книгой Бодрийяра.«Заговор искусства» – сборник статей и интервью, посвященный теме современного искусства, на которое Бодрийяр оказал самое непосредственное влияние.

Серия «Фигуры Философии» – это библиотека интеллектуальной литературы, где представлены наиболее значимые мыслители XX–XXI веков, оказавшие колоссальное влияние на различные дискурсы современности. Книги серии – способ освоиться и сориентироваться в актуальном интеллектуальном пространстве. Один из самых значительных философов современности Ален Бадью обращается к молодому поколению юношей и девушек с наставлением об истинной жизни. В нынешние времена такое нравоучение интеллектуала в лучших традициях Сократа могло бы выглядеть как скандал и дерзкая провокация, но смелость и бескомпромиссность Бадью делает эту попытку вернуть мысль об истинной жизни в философию более чем достойной внимания.

В красном углу ринга – философ Славой Жижек, воинствующий атеист, представляющий критически-материалистическую позицию против религиозных иллюзий; в синем углу – «радикально-православный богослов» Джон Милбанк, влиятельный и провокационный мыслитель, который утверждает, что богословие – это единственная основа, на которой могут стоять знания, политика и этика. В этой книге читателя ждут три раунда яростной полемики с впечатляющими приемами, захватами и проходами. К финальному гонгу читатель поймет, что подобного интеллектуального зрелища еще не было в истории. Дебаты в «Монструозности Христа» касаются будущего религии, светской жизни и политической надежды в свете чудовищного события: Бог стал человеком.