Детство императора Николая II - [30]
Когда мы с воробьём влетели в кухню, то были все единодушно потрясены. Мне с первого абцуга[86] показалось, что мы попали в церковь: высоченные потолки, люстры и масса духовенства в белом. Какие-то огромные чаши золотистого оттенка, серебряные ножи и, как на картинах Иорданса[87], туши огромных серебряных рыб (осетры), горы овощей и кровавого, почти дымящегося черкасского мяса[88]. Что-то шипит, что-то булькает, куда-то торопится, перегоняет друг друга, пахнет ароматным русским маслом (такого нет нигде в мире), слышится артистически-музыкальный стук ножей, рубящих мясо, и первый раз слышу — какая-то командующая речь, не то русская, не то нерусская, не то полурусская: это с французским акцентом истерически и пренебрежительно командовал главный повар, он же — акционер.
— Дай графинюшку вина! — повелительно кричал он, в неопределённом направлении протягивая красную, южноволосистую руку, — и ему с царским почтением поварёнок протягивал бутылку с французской надписью, и повар, как Санчо Панса[89], минуты две смотрел в потолок. Жара была невообразимая, нас никто не заметил, мы стояли в отдалении, разинув рот, удивляясь необычному и невиданному зрелищу, и, вероятно, от насыщенного масляного тепла мой воробей, находившийся в руке, начал шевелиться и приходить в память. Ещё немного спустя он спрятал белесоватые веки и открыл слезливо-жёлтенькие глазки. Великие князья подняли радостный шум, и тут наше инкогнито было впервые открыто. В секунду весь состав кухни окружил нас самым почтительнейшим образом. Француз пришёл в восхищение самое полное и начал благодарить великих князей за милостивое посещение.
Тогда я выступил вперёд и важно заявил:
— Нам нужно крутое яйцо для питания птицы.
И сейчас же по кухне раздался миллион эх, если только так можно сказать: «Им нужно крутое яйцо… Да, крутое яйцо…. Одно крутое яйцо… Для их птицы… Для великокняжеской птицы… Скорее, скорее кипяток, скорее, скорее яйцо, самое лучшее яйцо!» И тут до моего сознания в первый раз донеслась вся прелесть пребывания в великих князьях. Да, вот они, эти два маленьких мальчика, хозяйствуют здесь: всё — для них, и всё — через них, всё — добро зело. Все люди, красные, в страшных накрахмаленных колпаках, вытянулись, на лицах написан восторг, и казалось, что все не знают, куда броситься. Ники, под самые глаза, в бархатном футляре, поднесли меловито вымытое яйцо на показ и одобрение, и потом сам француз благоговейно опустил его в кастрюльку с кипятком. Ни один воробей, с самого сотворения мира, не имел пищи, приготовленной с таким умопомрачительным почётом.
— Дайте ваты! — сказал я. И откуда бы на кухне могла быть вата? Но вата, большой и пушистый кусок, появилась немедленно и тоже не просто, а на каком-то серебряном подносе, как ключи от завоёванного города. И, несмотря на весь этот почёт, моя трезвая, санчопансовская голова тревожилась только об одном: как бы из всего этого приключения не получилось крупных неприятностей с головомойкой, так как я не мог не понимать, что визиты на кухню никак не могли входить в программу нашей жизни. «У нас же — не как у людей», — размышлял я и рассчитывал только на то, что спасённый воробей из благодарности должен умолить Бога. Я отлично помнил слова Аннушки, однажды сказавшей:
— Если хочешь молитвы к Богу, то ни поп, ни чиновник не поможет. Проси зверя, чтоб помолился. Зверю у Бога отказу нет.
И я мысленно обратился с этой просьбой к воробью. Воробей, закутанный в вату, смотрел на пролетавших мух неодобрительно, и каковы его думы — сказать было трудно.
Мои думы о молитве были переданы по наитию Ники, и Ники вдруг сказал:
— Надо помолиться за воробушка: пусть его Боженька не берёт — мало у Него воробьёв?
И мы, вообще любившие играть в церковную службу, внимательно за ней следившие, спрятавшись за широкое дерево, отслужили молебен за здравие воробья, и воробей остался в живых. Мы поместили его на Аннушкиных антресолях и имели за ним отцовское попечение. Воробей вскорости не только пришёл в себя, но и избаловался, потерял скромность, шумел, клевался, и на семейном совете мы решили даровать ему свободу и открыли окно. Воробей выскочил на подоконник, понюхал осенний петербургский воздух, неодобрительно покрутил носом и важно вошёл обратно в комнату. Воробей был не из дураков и отлично знал, что, глядя на зиму, лучше синица в руках, чем журавль в небе.
Мы только что были на крестинах новорождённого великого князя Михаила Александровича и видели, как это дело делается. Решено было воробья обратить в христианскую веру. Надев скатерти на плечи, мы обмакнули его в стакане с подогретой водой и назвали воробья Иоанном. Иоанн после этого долго фыркал и был в раздражении. Я был протопресвитером[90], Ники — протодиаконом[91], Жоржик — крёстным отцом, а Аннушка, дико и неуместно хохотавшая, — кумою.
Церковь дворца. Приезд нянь
Наша детская дворцовая жизнь текла невероятно однообразно. Я не помню ни одного хотя бы раза, когда нас, детей, взяли бы, например, в театр. Единственным нашим развлечением было посещение богослужений и летом переезд в Гатчину, на дачное житьё.
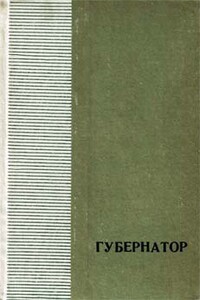
Повесть впервые опубликована в горьковском сборнике «Знание» по рекомендации А. М. Горького в 1912 г. Автор описывает жизнь губернского города Ставрополя в период с 1905 по 1910 г.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В 1-й том Собрания сочинений Ванды Василевской вошли её первые произведения — повесть «Облик дня», отразившая беспросветное существование трудящихся в буржуазной Польше и высокое мужество, проявляемое рабочими в борьбе против эксплуатации, и роман «Родина», рассказывающий историю жизни батрака Кржисяка, жизни, в которой всё подавлено борьбой с голодом и холодом, бесправным трудом на помещика.Содержание:Е. Усиевич. Ванда Василевская. (Критико-биографический очерк).Облик дня. (Повесть).Родина. (Роман).

В 7 том вошли два романа: «Неоконченный портрет» — о жизни и деятельности тридцать второго президента США Франклина Д. Рузвельта и «Нюрнбергские призраки», рассказывающий о главарях фашистской Германии, пытающихся сохранить остатки партийного аппарата нацистов в первые месяцы капитуляции…

«Тысячи лет знаменитейшие, малоизвестные и совсем безымянные философы самых разных направлений и школ ломают свои мудрые головы над вечно влекущим вопросом: что есть на земле человек?Одни, добросовестно принимая это двуногое существо за вершину творения, обнаруживают в нем светочь разума, сосуд благородства, средоточие как мелких, будничных, повседневных, так и высших, возвышенных добродетелей, каких не встречается и не может встретиться в обездушенном, бездуховном царстве природы, и с таким утверждением можно было бы согласиться, если бы не оставалось несколько непонятным, из каких мутных источников проистекают бесчеловечные пытки, костры инквизиции, избиения невинных младенцев, истребления целых народов, городов и цивилизаций, ныне погребенных под зыбучими песками безводных пустынь или под запорошенными пеплом обломками собственных башен и стен…».

В чём причины нелюбви к Россиии западноевропейского этносообщества, включающего его продукты в Северной Америке, Австралии и пр? Причём неприятие это отнюдь не началось с СССР – но имеет тысячелетние корни. И дело конечно не в одном, обычном для любого этноса, национализме – к народам, например, Финляндии, Венгрии или прибалтийских государств отношение куда как более терпимое. Может быть дело в несносном (для иных) менталитете российских ( в основе русских) – но, допустим, индусы не столь категоричны.

Тяжкие испытания выпали на долю героев повести, но такой насыщенной грандиозными событиями жизни можно только позавидовать.Василий, родившийся в пригороде тихого Чернигова перед Первой мировой, знать не знал, что успеет и царя-батюшку повидать, и на «золотом троне» с батькой Махно посидеть. Никогда и в голову не могло ему прийти, что будет он по навету арестован как враг народа и член банды, терроризировавшей многострадальное мирное население. Будет осужден балаганным судом и поедет на многие годы «осваивать» колымские просторы.

В книгу русского поэта Павла Винтмана (1918–1942), жизнь которого оборвала война, вошли стихотворения, свидетельствующие о его активной гражданской позиции, мужественные и драматические, нередко преисполненные предчувствием гибели, а также письма с войны и воспоминания о поэте.