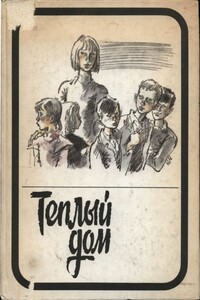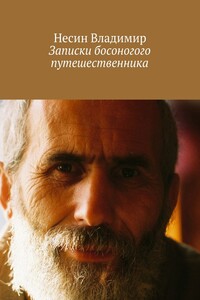В этой ситуации самые сообразительные быстро смекали, какому богу надобно служить, и охотно шли в шестерки к бывшим, а то – и к самой Людмиле Семёновне. Уже к десяти-двенадцати годам они хорошо усваивали нормы детдомовской этики – здесь царит закон джунглей, если не ты сверху, то – тебя подомнут…
У Людмилы Семеновны везде были связи, и довольно влиятельные. Городские власти ей во всем потакали. По этой причине противоречить ей считалось опасным. Однако действовала она хитро и тонко: уберечься от её немилости было просто невозможно. Не по нраву пришелся – дело труба. Нет, конечно, не совсем чтобы «скатертью дорога», но – «мы вас не задерживаем»…
Вот и весь разговор, качать права полная бессмыслица.
Вообще она бесподобно умела унизить подчиненного, сохраняя при этом видимость приличия в обхождении. Придраться не к чему. Если, конечно, считала нужным. Редко-редко позволяла себе (особенно в первые месяцы моего здесь присутствия) банально срываться. Она умела сохранять лицо, тут уже сказать нечего.
.. Итак, ещё один день подошёл к концу – а я всё ещё жива. И даже кое-что успела полезное сделать: повесила полки в отрядной – любуюсь… Просто кошмар до чего криво! А всё равно приятно – висят ведь, не падают. Шурупов под рукой не оказалось, а гвозди держали плохо, приходилось заколачивать всё более длинные и толстые… Разворотила полстены, пока повесила эти злосчастные полки. Последний гвоздь торжественно забила под бой курантов.
Полночь, пора домой. Пока метро не закрыли.
Однако уходила из детского дома не последняя – ещё одна полуночница столь же кропотливо готовилась встретить свою группу – первоклашек. Их завтра привезут всех вместе из дошкольного детского дома. Она тут недели две уже сидит за полночь – сменщицы у неё нет.
Предостерегает:
– Под окнами не ходите. Могут окатить, с них станет.
– Чем… окатить? – содрогнулась я.
– А чем попало. Обычай здесь такой – не понравился воспитатель, так выльют сверху помылки, и это в лучшем случае… Пока отыщешь виновного, сто раз обсохнуть успеешь. Да и как искать? Всё свалят на случай. Скажут, пол мыли, а грязную воду в туалет лень тащить. Ну, вот и плеснули за окно… Хамство и лень здесь узаконены.
– А что, часто здесь воспитателям достаётся? – осторожно спросила я, с опаской поглядывая на таинственную черноту мрачных детдомовских окон.
– Бывает, – ответила она грустно. – Ведь дети не всегда понимают, кто истинный виновник их бед. А воспитатель – вот он, всегда рядом, да ещё и нотации читает по всякому поводу, убирать заставляет, не велит курить.
– А что же директор не вмешивается? – вскипела я, совершенно не вдохновляясь перспективой быть на ночь «умытой» помылками.
– Что вы! Она ещё и провоцирует! Не упустит случая намекнуть при детях, что, мол, воспитатель виноват.
– Текучка большая? – спросила я.
– Ясное дело. Лучшие ходят, садисты приживаются. И вот их-то как раз Людмила Семеновна всегда выгораживает. И перед комиссиями, и перед детьми. Садюги ей ой как нужны.
– Так об этом надо в газету писать! – буквально закричала я.
– Писали. И что? Потом только хуже было. Нам же и доставалось.
И она принялась подробно рассказывать, как здесь чинят расправу над неугодными: воспитатели меняются каждый год, а то и чаще. Редко кто несколько лет выдерживает – кому уж совсем некуда податься…
Ночью я долго не могла уснуть. Находясь под впечатлением этого разговора. А когда под утро всё же уснула, мне приснился очень странный сон.
Сны вообще штука тёмная. Сон – что это? Свободный полёт фантазии, пророчество, предчувствия? Во сне можно одолеть огромные временные и пространственные масштабы, перескакивать самые незыблемые законы бытия и рассудка, оторваться от земли и унестись в небо, достигая тем самым пределов, которые просто невозможно постичь в реальном мире. И всё это будет – правда.
Так вот, сон был такой. Будто в театре меняют декорации. Меняют долго, тайно и неразумно – с одной стороны сцены всё время что-то переносят на другую… Но вот я уже вижу подмену – дерево меняют на пластик, бумагу – на полиэтилен… Один из актёров любовно прилепился к умирающему дереву, которое хотят заменить пластиковой штангой. И его никак не могут отлепить, потому что он… из пластилина… И тут же рядом, в оркестровой яме – ужасная пасть чавкает свеженькое мясцо… Чавкает и что-то бормочет под нос… И уже слышно – что.
«…пятнадцать томов законов и двадцать томов примечаний… пятнадцать томов…»
О чём этот сон был? Я часто о нём думала. О добре и зле грядущего?
И тут мне на глаза попались стихи. Они были перепечатаны мною на машинке, когда я относила последние книги в бук. Это Мережковский. Я стала читать.
Каким путём, куда идёшь ты, век железный?
Иль больше цели не, и ты висишь над бездной!
.. И вот сейчас, через много лет, я вспоминаю тот детский дом, вспоминаю обо всём, что там было, в мельчайших подробностях и спрашиваю себя – пошла бы снова в детский дом, уже на горьком опыте познав – как это бывает?
Да. Пошла бы.
Но только в тот же самый. И к тем же детям…
Потом у меня были и другие воспитанники. Но именно эти, самые трудные, остались моими.