Дервиш и смерть - [136]
Вчитываясь в дневник дервиша Ахмеда, вы прежде всего чисто читательски, непосредственно ощущаете странность стиля. Вам трудно уловить в тексте единый тон: здесь и реалистическая плотность письма, и философская символика, и ирония, и пафос. По словам Селимовича, только искренность спасла его от хаоса, связав все эти разнородные элементы воедино. Но борьбу разнородных начал в ткани текста вы чувствуете непрерывно, более того, вы чувствуете, что эта стилистическая напряженность, разнозаряженность текста играет здесь явно содержательную роль.
В известном смысле словесная ткань романа напряжена взаимодействием реальных и духовных элементов, вещей и парений, тяжелых резонов и высших стремлений. Любопытно, что во всех высказываниях Меши Селимовича о языке (а он в своих статьях часто касается этой темы) острее всего переживается антитеза «плотность — прозрачность». Он пишет о борьбе философских абстракций с локальной замкнутостью местных течений, пишет о преодолении суровости, крутости, твердости сербохорватского языка, он мечтает о языке прозрачном, гибком, которого не замечаешь, как не замечаешь музыки в хорошем фильме. Это какая-то непрерывная борьба с плотью языка, желание освободиться от этой плоти, пройти, пробить поверхность предметов… Разумеется, лингвистический пафос Селимовича-филолога — это пафос, рожденный трудностями местной словесности, выбивающийся к глобальной философской проблематике. Критика в Югославии много писала о том, что романом «Дервиш и смерть» литература Боснии пробивается к мировым дискуссиям о человеке. Но дело еще и в том, что отношение Селимовича к языку дает непосредственную разгадку обаяния его романа, здесь борьба «поверхностей» и «бездн» несет решающую нагрузку, в сущности создавая в тексте всю правду переживания. Вульгарно говоря, шейх Ахмед Нуруддин делает сплошные элементарности, он предельно нормален, плотен, непроницаем, он делает только обыкновенные шаги… а вокруг него, по закону художественного чуда, простирается неистребимое поле высшего смысла и далеких предчувствий. Перед нами — и не описание событий, и не отрешенное раздумье и даже не переплетение событий с раздумьями о них. Это некое иное состояние, в котором раздумье движется вперед как бы спрессованными впечатлениями от событий, а за видимым нежеланием повествовать о событиях угадывается удесятеренная ужасом зоркость взгляда, буквально выпотрашивающая из событий их смысл — подсмысл — «подподсмысл»… Зоркость чисто внешняя (то, как видит дервиш руки вбежавшего в текию человека, спасающегося от погони: одеревенелые, раскинутые, как на распятии, вжимающиеся в стену) — это не просто цепкий взгляд живописца — за этими деталями зоркость Селимовича вскрывает психологические и философские состояния. Оцепеневший дервиш не решается ни выдать беглеца преследователям, ни спрятать его, он боится предать человека, боится предать себя, ибо с преследователями он ведь тоже связан чем-то вроде добровольного обязательства. Понимая, что любое действие заранее обречёт его на поражение, он на последней грани пытается спасти свою совесть, вообще не предпринимая ничего… или хоть не становясь прямо на сторону палача.
Читатель легко прорисует контекст, в котором размышление Селимовича о человеке становится звеном в раздумье мирового искусства. Альбер Камю, конечно, самая близкая ассоциация. Действовать — значит, уже разменивать добро на зло, уже отдать себя какой-то иной логике, уже идти к гибели. Не действовать?…
Здесь мы подходим к первому пункту духовной эволюции героя романа. Этот пункт — отказ от действий. Это острое переживание того, что всякое действие есть ущерб духа. Это… оцепенение духа.
Отметим попутно, что философский роман Селимовича уже в этом первом пункте выходит за пределы той локальной системы духовных воззрений, на базе которых этот роман вроде бы построен. Я имею в виду ислам. Скрупулезно точный в передаче реалий и состояний, характерных для мусульманской духовной традиции, Селимович тем не менее видит в своем герое нечто большее… или нечто более всеобщее, нежели мучения шейха мевлевийской текии в XVII веке. Да, в его размышлении все время чувствуется мусульманская окраска, его самоуглубленность, выдающая вековые традиции суфиев, построена все же не на ощущении свободы, а скорее на ощущении кары, которая придет с неотвратимостью закона,— стремительные кружева рационалистичного мышления, работающего подобно счетной машине, в сочетании с ощущением безостаточности того, как личность вкована в цепь законов бытия, выдают исламский стиль мышления лучше, чем описания молитвы, диванханы и яшмака. И все-таки это роман не об исламе. Перефразируя одного югославского критика, можно сказать: читая Селимовича, вы все время чувствуете магометанство, но вы также все время чувствуете, что существенно не это, что роман «Дервиш и смерть» шире исламской темы, Селимович как художник находит своих предтеч и союзников в книгах, далеких от темы и традиций магометанства. Этот стиль всеобщ. В свое время на почве католической традиции возникла, например, родственная «Дервишу» исповедь Жоржа Бернаноса «Записки сельского священника». В совершенно иной традиции возникает проза японца Кобэ Абэ, этот японский вариант мучительного раздумья личности, цепенеющей перед выбором и бессильной вырваться из логики борьбы. Возвращаясь к Ахмеду Нуруддину, герою «Дервиша и смерти», заметим, что стоящие перед ним проблемы отнюдь не привязаны к Сараеву XVII века. Во всяком случае, для
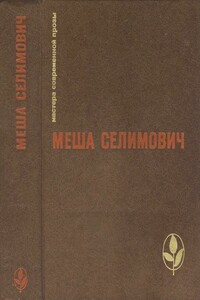
Меша Селимович — крупное имя в литературе современной Югославии. Действие знакомых читателю романов «Дервиш и смерть» и «Крепость» развивается в далеком прошлом, когда Босния находилась под игом Османской империи. Эти философско-психологические романы объединяет вечно актуальная тема человеческой совести, долга, выбора.

Это роман о потерянных людях — потерянных в своей нерешительности, запутавшихся в любви, в обстановке, в этой стране, где жизнь всё ещё вертится вокруг мёртвого завода.

Самое начало 90-х. Случайное знакомство на молодежной вечеринке оказывается встречей тех самых половинок. На страницах книги рассказывается о жизни героев на протяжении более двадцати лет. Книга о настоящей любви, верности и дружбе. Герои переживают счастливые моменты, огорчения, горе и радость. Все, как в реальной жизни…

Контрастный душ из слез от смеха и сострадания. В этой книге рассуждения о мироустройстве, людях и Золотом теленке. Зарабатывание денег экзотическим способом, приспосабливаясь к современным реалиям. Вряд ли за эти приключения можно определить в тюрьму. Да и в Сибирь, наверное, не сослать. Автор же и так в Иркутске — столице Восточной Сибири. Изучай историю эпохи по судьбам людей.

Эзра Фолкнер верит, что каждого ожидает своя трагедия. И жизнь, какой бы заурядной она ни была, с того момента станет уникальной. Его собственная трагедия грянула, когда парню исполнилось семнадцать. Он был популярен в школе, успешен во всем и прекрасно играл в теннис. Но, возвращаясь с вечеринки, Эзра попал в автомобильную аварию. И все изменилось: его бросила любимая девушка, исчезли друзья, закончилась спортивная карьера. Похоже, что теория не работает – будущее не сулит ничего экстраординарного. А может, нечто необычное уже случилось, когда в класс вошла новенькая? С первого взгляда на нее стало ясно, что эта девушка заставит Эзру посмотреть на жизнь иначе.

Книга известного политика и дипломата Ю.А. Квицинского продолжает тему предательства, начатую в предыдущих произведениях: "Время и случай", "Иуды". Книга написана в жанре политического романа, герой которого - известный политический деятель, находясь в высших эшелонах власти, участвует в развале Советского Союза, предав свою страну, свой народ.

Книга построена на воспоминаниях свидетелей и непосредственных участников борьбы белорусского народа за освобождение от немецко-фашистских захватчиков. Передает не только фактуру всего, что происходило шестьдесят лет назад на нашей земле, но и настроения, чувства и мысли свидетелей и непосредственных участников борьбы с немецко-фашистскими захватчиками, борьбы за освобождение родной земли от иностранного порабощения, за будущее детей, внуков и следующих за ними поколений нашего народа.