День учителя - [5]
Впрочем, когда в школе Андрей проходил историю родного города, старый учитель Владимир Петрович Рудаков посеял в сознании своих учеников сомнение в достоверности предания о заплутавшем в болотах князе. Дело в том, что Заболотск стоял вовсе не на болоте, а на реке Латузе, и у Владимира Петровича была своя версия возникновения здесь поселения, удревнявшая его историю на несколько веков. Старик проработал в школе годов сорок, и каждое лето он пытался проводить с учениками археологические раскопки, надеясь отнять у земли информацию о прошлом горячо любимого города. И вот как-то, еще в 50-х, некий рыбак, удивший поблизости от лагеря школьников, принес Владимиру Петровичу древнюю, изрядно потемневшую арабскую монету. Учитель съездил в Москву к известному историку Янину — специалисту по монетным системам древности. Молодой кандидат наук принял из дрожащих рук краеведа истертый серебряный кругляшок и датировал его началом IX века. Узнав, что находка разовая, столичный ученый покачал головой и предложил сдать дирхем в Исторический музей. Но Владимир Петрович увез ценность назад в Заболотск, где и отдал в музей — краеведческий, занимавший бывший дореволюционный особняк местного купца Дементьева. Эта арабская монетка диаметром в два сантиметра дала мощный импульс дремавшим в школьном учителе силам. Он пришел к выводу, что возникновение Заболотска следует передатировать и отнести к IX веку. Раскопки были заброшены, в городе стали замечать, что «историк» вообще перестал появляться на людях — раньше его, одинокого холостяка, можно было встретить вечерами чинно гуляющим по улицам города и принимающим приветствия учеников и их родителей. Учитель засел за написание труда, который должен был стать делом всей его жизни и перевернуть традиционные представления о ранней русской истории, — так казалось Рудакову. Через несколько лет папка с рукописью была отвезена в Москву, но энтузиазма у специалистов не вызвала. Владимира Петровича похвалили за справедливую критику «поздней топонимической легенды» о заплутавшем в болотах Юрии Долгоруком, но всю вторую часть исследования, содержавшую смелые предположения об идентификации Заболотска с загадочным центром древних русов Артанией, известным из арабских источников, столичные историки не приняли. Особенно учителя возмутила реплика одного молодого археолога, заметившего, что монету мог обронить кто-нибудь из викингов, проплывавших-де когда-то на своих кораблях по этим местам. Услышав эту непатриотическую гадость, Владимир Петрович молча сложил в папочку листочки, потрепанные от прикосновений рук людей, читавших рукопись, и удалился восвояси. В последующие десятилетия он неизменно приводил классы, в которых вел уроки, в краеведческий музей и показывал на стенде с древностями свою знаменитую монету, занимавшую почетное место между грудой каких-то черепков и ржавым шлемом, который тот же Владимир Петрович датировал XV веком и приписывал последнему из князей Заболотских, пытавшемуся отстоять «свою независимость и права на родное княжество в борьбе с могущественными и беспринципными московскими князьями». Правда, после этого учитель обязательно что-нибудь добавлял о прогрессивности процесса собирания русских земель вокруг Москвы.
Ко времени правления князя — владельца шлема — Заболотск уже два века был самостоятельным княжеством. Потомки Юрия Долгорукого так расплодились, что даже такие, ранее всего раз-два упоминавшиеся на страницах летописей городки-крепости стали столицами отдельных государств. Владимир Петрович любил порассуждать о том, что в отличие от своих дальних родственников — московских князей — Заболотские князья не занимались стяжанием земель соседей, а жили вполне патриархально и достойно, хотя и эксплуатировали, конечно, зависимых от них крестьян. Один из заболотских князей даже был тяжело ранен на Куликовом поле, но в отличие от Дмитрия Донского сражение не покинул, а когда, после бегства Мамая, начались поиски московского князя, выполз из-под груды навалившихся на него мертвых татар и указал, в каком направлении удалился несколько помятый, но, в общем, невредимый Дмитрий Иванович. Такое благородство не спасло Заболотское княжество — оказалось, еще при Иване Калите, дедушке Донского героя, земли вокруг Заболотска были скуплены у бесхозяйственных местных владетелей московским князем, а сын великого князя Дмитрия Ивановича — Василий I купил у татар ярлык и на Заболотск. Еще сколько-то десятилетий местные князья продержались в городе в качестве подручников великих князей московских, но потом у одного из Заболотских сдали нервы, он вступил в переговоры с литовскими князьями и, обвиненный в измене, как водится, оказался в эмиграции в Литве, куда бежал так быстро, что, согласно поздним летописям, обронил шлем. Остатками того самого шлема Владимир Петрович и считал ржавые обломки, красовавшиеся на витрине краеведческого музея Заболотска.
Кроме тезиса о неблагородстве и неблагодарности Москвы у старого учителя, каким его знал Мирошкин уже в начале 80-х, была еще одна любимая тема — сколько раз Заболотск оказывался столицей России. Таких случаев, по мнению Рудакова, было два. Первый произошел в середине XV века, когда занятый войной с мятежным князем Дмитрием Шемякой московский князь Василий II Темный на пару дней задержался в Заболотске. Второй — столетием позже — тогда измученный подозрениями и страхами беспокойный правнук Василия II — царь Иван Грозный — остановился ненадолго в далеком от Москвы городке и никого не казнил. Владимир Петрович считал, что такое доверие московского государя к заболотчанам объясняется просто — царь искал место для своей опричной столицы, и только случайность подтолкнула его сделать выбор в пользу Александровской слободы, а не Заболотска. После Ивана Грозного Заболотск удостоился высочайшего посещения лишь однажды — Екатерина Великая, одержимая желанием понять, что такое страна, которой ей выпала судьба управлять, и потому колесившая по ее просторам, закатилась как-то с огромной свитой в Заболотск. И хотя перепуганное местное начальство постаралось устроить императрицу с максимальными удобствами — ей отвели дом купца Дементьева, где позднее и открылся музей, в котором много позднее советские школьники могли наблюдать небольшую экспозицию, посвященную этому событию, — все равно конфуза избежать не удалось. На въезде в город царская карета застряла в грязи. Впрочем, Екатерина никак не выразила своего неудовольствия, посетила храм Рождества Богородицы, приложилась к иконам, но, уезжая, велела находившемуся при ней архитектору Казакову составить генеральный план, по которому предстояло перестроить город. Этот план также висел на стене краеведческого музея. В результате в Заболотске снесли руины древней крепости, разобрали несколько ветхих храмов, упразднили монастырь, выросший вокруг храма Рождества Богородицы, а к самому храму пристроили огромную колокольню, в сравнении с которой Рождественский собор казался лилипутом. Тогда же в городе появилась пожарная каланча, самая высокая в сравнении с соседними уездными городами. Говорят, что деревянные домишки Заболотска, окружавшие хоромы Дементьевых, навеяли на императрицу страхи по поводу возможного пожара…
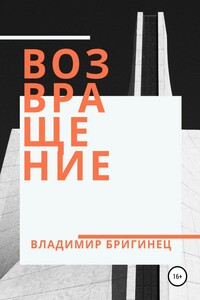
Проснувшись рано утром Том Андерс осознал, что его жизнь – это всего-лишь иллюзия. Вокруг пустые, незнакомые лица, а грань между сном и реальностью окончательно размыта. Он пытается вспомнить самого себя, старается найти дорогу домой, но все сильнее проваливается в пучину безысходности и абсурда.
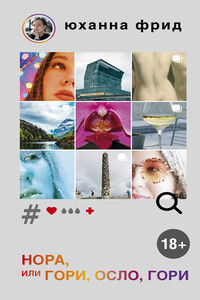
Когда твой парень общается со своей бывшей, интеллектуальной красоткой, звездой Инстаграма и тонкой столичной штучкой, – как здесь не ревновать? Вот Юханна и ревнует. Не спит ночами, просматривает фотографии Норы, закатывает Эмилю громкие скандалы. И отравляет, отравляет себя и свои отношения. Да и все вокруг тоже. «Гори, Осло, гори» – автобиографический роман молодой шведской писательницы о любовном треугольнике между тремя людьми и тремя скандинавскими столицами: Юханной из Стокгольма, Эмилем из Копенгагена и Норой из Осло.
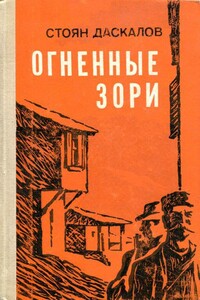
Книга посвящается 60-летию вооруженного народного восстания в Болгарии в сентябре 1923 года. В произведениях известного болгарского писателя повествуется о видных деятелях мирового коммунистического движения Георгии Димитрове и Василе Коларове, командирах повстанческих отрядов Георгии Дамянове и Христо Михайлове, о героях-повстанцах, представителях различных слоев болгарского народа, объединившихся в борьбе против монархического гнета, за установление народной власти. Автор раскрывает богатые боевые и революционные традиции болгарского народа, показывает преемственность поколений болгарских революционеров. Книга представит интерес для широкого круга читателей.
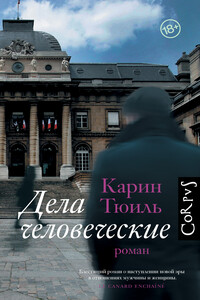
Французская романистка Карин Тюиль, выпустившая более десяти успешных книг, стала по-настоящему знаменитой с выходом в 2019 году романа «Дела человеческие», в центре которого громкий судебный процесс об изнасиловании и «серой зоне» согласия. На наших глазах расстается блестящая парижская пара – популярный телеведущий, любимец публики Жан Фарель и его жена Клер, известная журналистка, отстаивающая права женщин. Надлом происходит и в другой семье: лицейский преподаватель Адам Визман теряет голову от любви к Клер, отвечающей ему взаимностью.
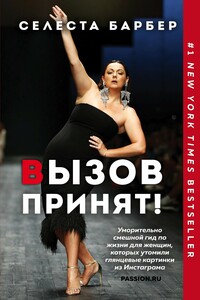
Селеста Барбер – актриса и комик из Австралии. Несколько лет назад она начала публиковать в своем инстаграм-аккаунте пародии на инста-див и фешен-съемки, где девушки с идеальными телами сидят в претенциозных позах, артистично изгибаются или непринужденно пьют утренний смузи в одном белье. Нужно сказать, что Селеста родила двоих детей и размер ее одежды совсем не S. За восемнадцать месяцев количество ее подписчиков выросло до 3 миллионов. Она стала живым воплощением той женской части инстаграма, что наблюдает за глянцевыми картинками со смесью скепсиса, зависти и восхищения, – то есть большинства женщин, у которых слишком много забот, чтобы с непринужденным видом жевать лист органического салата или медитировать на морском побережье с укладкой и макияжем.
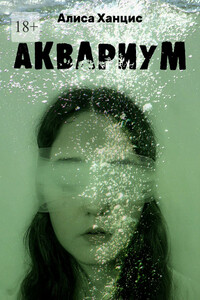
Апрель девяносто первого. После смерти родителей студент консерватории Тео становится опекуном своего младшего брата и сестры. Спустя десять лет все трое по-прежнему тесно привязаны друг к другу сложными и порой мучительными узами. Когда один из них испытывает творческий кризис, остальные пытаются ему помочь. Невинная детская игра, перенесенная в плоскость взрослых тем, грозит обернуться трагедией, но брат и сестра готовы на всё, чтобы вернуть близкому человеку вдохновение.