День тревоги - [3]
С некоторых пор в селе так повелось, что свое единоличное стадо землякам Николая приходилось самим пасти.
Раньше, бывало, собирались самой ранней весной, подряжали за общественную, со двора, плату какого-нибудь бобыля либо другого кого, кому нужда велела в пастухи идти — и стерег он круглый сезон коров; у хозяев только и заботы было — встрень бурену да проводи… А теперь охотников на целое лето в степь уходить совсем не стало; нужду, слава богу, за ворота из каждого двора повывели, и на пастуший целодневный труд теперь уже никто не соглашался — нынче и в колхозе можно заработать, только не ленись… Так вот, хочешь не хочешь, и началась пастьба по очередности дворов: сколько голов рогатого — столько дней и паси в своей черед… Николай уже был один раз весною, отстерег свои два дня; а вот на днях опять пришла телеграмма — «приезжай дорогой сынок шестого очередь отец болеет»… Такие приходили и раньше; и первую из них начальник строительного управления, человек неплохой, разглядывал долго и с недоумением, а потом поднял на него глаза и сказал: «Ну, и что?..» Николай, покраснев слегка, досадуя на себя, что не сказал ему сразу сути дела, объяснил, что отец у него вот уже много лет как страдает от ревматизма, и мать никуда не годится; и так вот вышло, что дома совершенно некому отпасти подошедшую очередь, два дня. Он все пять лет из института отпрашивался на это дело, отпускали.
— Ну, хорошо, — сказал начальник. — Ну, могли бы они и продать эту скотину, если уж не справляются. Или нанять кого попасти, что ли.
— Кто сейчас пойдет, — устало произнес Николай, ему почему-то показалось, что начальник уже не намерен отпускать его по такой, пустяшной для него, причине. — А в деревне без скотины не проживешь… Только поймите, Александр Степанович: для родителей моих и для меня все это очень важно.
— Нет-нет, я понимаю, — сказал начальник и потер лоб, взглянул на него снова. — А… не стыдно вам будет, вот так вот… инженеру — и вдруг с кнутом?
— Работа как работа, — даже усмехнулся Николай, — привык давно. Да и не я один приезжаю скотину стеречь или помочь в чем… Времена такие.
— Да, — вздохнул начальник, — времена… А мои вот пока сами управляются, не зовут…
— Тоже сельские?
— Оттуда. Чудно, а?.. Ну, езжай, попасись; только чтоб к понедельнику — как штык.
Он шел так, потише, оглядывал все и, собственно, взволнован не был, как после первых долгих разлук с родным; в сердце его за время этих частых приездов сюда крепко и надолго вселилась печаль. Он видел старый, улезший колеями в землю большак, чахлую мураву по обочинам, лощинки, поросшие по скатам жестким сухим чилижником и таким же сухим, но с сильным и нежным запахом чабрецом, а на горизонте призрачные, синеватые с зеленым, меловые плоскогорья.
Знакомые раньше до мелочей березовые колки за полями словно бы еще отдалились, стали мельче и глаже, и все вокруг было просторным, пустым и тихим.
Он заметил в который раз эту отдаленность от себя, и печаль всего, и что-то бо́льшее; так взрослый человек после многих лет разлуки с матерью, которую он вспоминает все больше молодой да шумливой, вдруг застает ее тихой морщинистой старухой и понимает, что не виделись они в самом деле очень давно и что время их не щадит — обоих…
И когда галечный ковыльный взгорок оборвался и большак круто скользнул вниз, к затихшему под солнцем и высокими жаворонками селу, он остановился, закурил, а потом отошел и сел поодаль на ископыченный редкий ковылек. Попытался найти отсюда крышу отцовского дома, но все закрывали другие крыши, постройки, величественно-сонные летние сады…
Когда, с чего начиналась его жизнь среди родины, он помнил слабо и смутно. Память с тех очень далеких, ему казалось, времен оставила и иногда показывает ему самые немногие, первые картинки — большей частью неясные и совсем пустяковые, незначительные для его будущей жизни, но которые любимы и милы будут до последнего срока. И были это даже не картинки, а так, одни ощущения мира, разделенного тогда для него на свои первородные составляющие — на краски, формы и запахи, на теплоту и свет разделенного мира. Мать ему рассказывала, как однажды, годика в два, утопал он со двора на зады их сельской улицы, а там перешел и через дорогу, через гумно и залез в поспевающие колхозные хлеба. Не вот его хватились; переполошились, все дворы обшарили, колодцы проверили… А нашли мирно сидящим средь густой августовской пшеницы, на теплой земле. И он всегда знал о той пшенице не по рассказу, а сам; но только мало, помня лишь что-то ослепительно желтое, жаркое, дремотно шуршащее, и еще голубое — это было его первым небом… Что было раньше, он не знал, и не чувствовал, и теперь никогда уже не узнает.
Попозже ощущение и картинки эти стали понемногу складываться, оформляться уже в более четкое, связное, даже сюжетное — там начиналось детство… Там, позади, за голубой дальностью лет росли необыкновенные какие-то деревья, была необыкновенно мягка и близка трава, тепла и ласкова речная вода, ярки краски и сладки плоды земли… Все было внове, новым было и молодым; и ему подумалось, что ведь природа рождается с появлением каждого нового человека — каждый раз молодой, полной тепла и света, всяких своих таинств и страха… Да, так оно и есть, наверное. Но как грубеет человек от времени, думал он, как скоро грубеет все со временем. Может, мы и становимся с возрастом умнее; но чтобы тоньше, понятливее к голосам отовсюду — нет, вряд ли… Наоборот, толстокожими стали; та зеленая кожица ветки стала корьем…
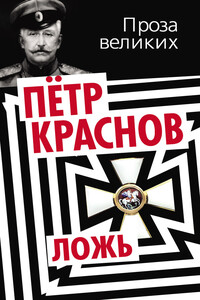
Автобиографический роман генерала Русской Императорской армии, атамана Всевеликого войска Донского Петра Николаевича Краснова «Ложь» (1936 г.), в котором он предрек свою судьбу и трагическую гибель!В хаосе революции белый генерал стал игрушкой в руках масонов, обманом был схвачен агентами НКВД и вывезен в Советскую страну для свершения жестокого показательного «правосудия»…Сразу после выхода в Париже роман «Ложь» был объявлен в СССР пропагандистским произведением и больше не издавался. Впервые выходит в России!
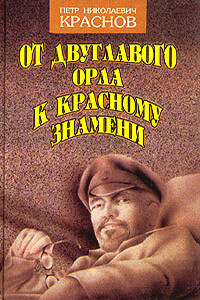
Краснов Петр Николаевич (1869–1947), профессиональный военный, прозаик, историк. За границей Краснов опубликовал много рассказов, мемуаров и историко-публицистических произведений.
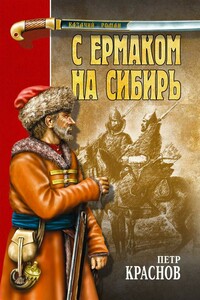
Роман «С Ермаком на Сибирь» посвящен предыстории знаменитого похода, его причинам, а также самому героическому — без преувеличения! — деянию эпохи: открытию для России великого и богатейшего края.
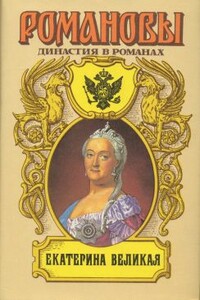
Екатерининская эпоха привлекала и привлекает к себе внимание историков, романистов, художников. В ней особенно ярко и причудливо переплелись характерные черты восемнадцатого столетия – широкие государственные замыслы и фаворитизм, расцвет наук и искусств и придворные интриги. Это было время изуверств Салтычихи и подвигов Румянцева и Суворова, время буйной стихии Пугачёвщины…В том вошли произведения:Bс. H. Иванов – Императрица ФикеП. Н. Краснов – Екатерина ВеликаяЕ. А. Сапиас – Петровские дни.
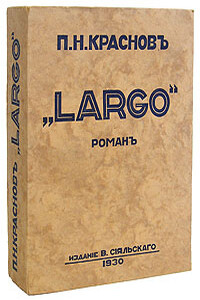
Роман замечательного русского писателя-реалиста, видного деятеля Белого движения и казачьего генерала П.Н.Краснова основан на реальных событиях — прежде всего, на преступлении, имевшем место в Киеве в 1911 году и всколыхнувшем общественную жизнь всей России. Он имеет черты как политического детектива, так и «женского» любовно-психологического романа. Рисуя офицерскую среду и жизнь различных слоев общества, писатель глубиной безпощадного анализа причин и следствий происходящего, широтой охвата действительности превосходит более известные нам произведения популярных писателей конца XIX-начала ХХ вв.
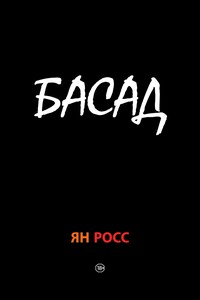
Главный герой — начинающий писатель, угодив в аспирантуру, окунается в сатирически-абсурдную атмосферу современной университетской лаборатории. Роман поднимает актуальную тему имитации науки, обнажает неприглядную правду о жизни молодых ученых и крушении их высоких стремлений. Они вынуждены либо приспосабливаться, либо бороться с тоталитарной системой, меняющей на ходу правила игры. Их мятеж заведомо обречен. Однако эта битва — лишь тень вечного Армагеддона, в котором добро не может не победить.
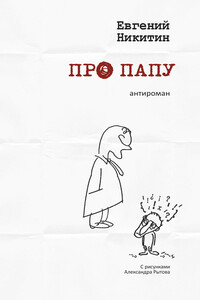
Своими предшественниками Евгений Никитин считает Довлатова, Чапека, Аверченко. По его словам, он не претендует на великую прозу, а хочет радовать людей. «Русский Гулливер» обозначил его текст как «антироман», поскольку, на наш взгляд, общность интонации, героев, последовательная смена экспозиций, ироничских и трагических сцен, превращает книгу из сборника рассказов в нечто большее. Книга читается легко, но заставляет читателя улыбнуться и задуматься, что по нынешним временам уже немало. Книга оформлена рисунками московского поэта и художника Александра Рытова. В книге присутствует нецензурная брань!

Знаете ли вы, как звучат мелодии бакинского двора? А где находится край света? Верите ли в Деда Мороза? Не пытались ли войти дважды в одну реку? Ну, признайтесь же: писали письма кумирам? Если это и многое другое вам интересно, книга современной писательницы Ольги Меклер не оставит вас равнодушными. Автор более двадцати лет живет в Израиле, но попрежнему считает, что выразительнее, чем русский язык, человечество ничего так и не создало, поэтому пишет исключительно на нем. Галерея образов и ситуаций, с которыми читателю предстоит познакомиться, создана на основе реальных жизненных историй, поэтому вы будете искренне смеяться и грустить вместе с героями, наверняка узнаете в ком-то из них своих знакомых, а отложив книгу, задумаетесь о жизненных ценностях, душевных качествах, об ответственности за свои поступки.

Александр Телищев-Ферье – молодой французский археолог – посвящает свою жизнь поиску древнего шумерского города Меде, разрушенного наводнением примерно в IV тысячелетии до н. э. Одновременно с раскопками герой пишет книгу по мотивам расшифрованной им рукописи. Два действия разворачиваются параллельно: в Багдаде 2002–2003 гг., незадолго до вторжения войск НАТО, и во времена Шумерской цивилизации. Два мира существуют как будто в зеркальном отражении, в каждом – своя история, в которой переплетаются любовь, дружба, преданность и жажда наживы, ложь, отчаяние.

Книгу, которую вы держите в руках, вполне можно отнести ко многим жанрам. Это и мемуары, причем достаточно редкая их разновидность – с окраины советской страны 70-х годов XX столетия, из столицы Таджикской ССР. С другой стороны, это пронзительные и изящные рассказы о животных – обитателях душанбинского зоопарка, их нравах и судьбах. С третьей – раздумья русского интеллигента, полные трепетного отношения к окружающему нас миру. И наконец – это просто очень интересное и увлекательное чтение, от которого не смогут оторваться ни взрослые, ни дети.

Оксана – серая мышка. На работе все на ней ездят, а личной жизни просто нет. Последней каплей становится жестокий розыгрыш коллег. И Ксюша решает: все, хватит. Пора менять себя и свою жизнь… («Яичница на утюге») Мама с детства внушала Насте, что мужчина в жизни женщины – только временная обуза, а счастливых браков не бывает. Но верить в это девушка не хотела. Она мечтала о семье, любящем муже, о детях. На одном из тренингов Настя создает коллаж, визуализацию «Солнечного свидания». И он начинает работать… («Коллаж желаний») Также в сборник вошли другие рассказы автора.
