День саранчи - [9]
Однажды ночью, когда мы с Саньетт, сняв номер в гостинице, лежали в постели, мне стало вдруг тошно от тех безумных снов, которые я, смеха ради, взялся ей пересказывать. Так тошно, что я стал ее бить. Бил и вспоминал этого странного человека, Джона Раскольникова Джилсона, русского студента. Бил и кричал: «О запор желаний! О понос любви! О жизнь в жизни! О тайна бытия! О Христианская ассоциация молодых женщин! О! О!»
Когда же на ее крики прибежал коридорный, я попытался объяснить причину своего раздражения. Вот что я сказал:
«Сегодня вечером я очень нервничаю. На глазу у меня ячмень, на губе засохшая болячка, на шее прыщ от воротника, еще один прыщ в углу рта, на носу висит соленая сопля. Оттого, что я все время вытираю нос, ноздри у меня воспалены, саднят и болят.
Лоб мой покрыт такими глубокими морщинами, что он постоянно ноет, расправить же морщины я не в состоянии. Я трачу много часов в день, чтобы удалить морщины. Пытаюсь застать себя врасплох, пытаюсь разгладить лоб пальцами, пытаюсь сосредоточиться на этом — но ничего не получается. Кожа над бровями стянута в саднящий, тугой узел.
Деревянная крышка стола, бокалы на столе, шерстяное платье этой девушки, кожа под платьем — все это возбуждает и раздражает меня. Мне кажется, будто все эти вещи — дерево, стекло, шерсть, кожа — трутся о мой ячмень, о мои прыщи и болячки, причем трутся так, что не только не останавливают зуд, не превращают раздражение в настоящую боль, а еще больше усиливают, усугубляют его, доводят до того, что оно перекрывает все — истерику, отчаяние.
Я подхожу к зеркалу и выдавливаю ячмень, срываю ногтями корочку на болячке. Тру грубым рукавом пальто свои распухшие, воспаленные ноздри. Если б только можно было превратить раздражение в боль, обратить все в безумие — и таким образом спастись! Довести раздражение до настоящей боли я могу всего на несколько секунд, но вскоре боль стихает, и вновь возвращается монотонное воспалительное подергиванье. О, как мимолетна боль! — кричу я. Меня подмывает растереть все тело наждачной бумагой. На ум приходят топленое сало, сандаловое масло, слюна. В эти минуты я думаю о бархате, о Китсе, о музыке, о прочности драгоценных камней, о математике, об архитектурных сооружениях. Но увы! Облегченья все эти мысли мне не приносят».
Ни Саньетт, ни коридорный ничего не поняли. Саньетт сказала, что, насколько она могла понять, речь идет не о физическом, а о моральном раздражении. «Я пришла к выводу, — добавила она, — что он меня больше не любит, — джентльмен ведь никогда не ударит даму». Коридорный же что-то бубнил про полицию.
Чтобы выпроводить коридорного, я спросил его, приходилось ли ему слышать о маркизе де Саде или о Жиль де Ре[27]. По счастью, отель, который мы сняли, находился на Бродвее, а служащие бродвейских отелей жизнь, как правило, знают неплохо. Стоило мне произнести эти имена, как коридорный поклонился и с улыбкой скрылся за дверью. Моя Саньетт тоже не вчера родилась; она улыбнулась и снова легла в постель.
Наутро я вспомнил их многозначительные улыбки и счел за лучшее еще раз объяснить свои поступки. Нет, я вовсе не желал подчеркнуть разницу между тем, как избивает свою «супружницу» карикатурный пьяница, и тем, как бил Саньетт я. Мне просто хотелось прояснить свою позицию, окончательно расставить все точки над i.
— Когда ты думаешь обо мне, Саньетт, — сказал я, — думай не об одном, а о двух мужчинах, обо мне и о шофере внутри меня. Шофер этот — здоровенный детина в уродливом костюме из дешевого магазина готового платья. На его подошвах, стертых от ходьбы по улицам огромного города, налипли жвачка и собачьи экскременты. Руки — в перчатках из грубой шерсти. На голове котелок.
Имя этого шофера — Страсть к Воспроизводству Себе Подобных.
Во мне он расположился так же, как сидит человек в автомобиле. Его пятки давят мне на живот, коленями он упирается мне в сердце, лицом — в мозг. Его ручищи в перчатках крепко держат меня за язык; покрытые шерстью руки заткнули рот, чтобы я не мог выразить чувства, которые испытываю оттого, что его глаза устремлены прямо мне в мозг.
Изнутри он управляет теми ощущениями, которые я получаю через пальцы, глаза, язык, уши.
Можешь себе представить, каково носить в себе этого дьявола в костюме? Тебе когда-нибудь приходилось голой обниматься с одетым мужчиной? Помнишь, как врезаются в кожу пуговицы на его пиджаке, как наступают на твои голые ступни тяжелые башмаки? А теперь вообрази, что этот человек находится в тебе, что своими толстыми пальцами в шерстяных перчатках он хватает тебя за сердце и за язык, наступает своими грязными, кривыми ножищами на твою нежную, голую ножку.
Выражался я настолько витиевато, что Саньетт сумела обратить мою месть в шутку. Второе избиение она перенесла с кроткой, мягкой улыбкой.
Саньетт олицетворяет собой особый вид аудитории — это толковые, искушенные, глубоко чувствующие и вместе с тем видавшие виды театралы. В своих выступлениях я ориентируюсь именно на них, истинных почитателей искусства.
Когда-нибудь я отомщу миру и сочиню пьесу для небольшого художественного театра, куда ходят немногие избранные: любители искусства и книгочеи, школьные учителя, которые обожают травоядного Шоу, помешанные на культуре сентиментальные евреи, библиотекари, ассистенты издателей, гомосексуалисты и ассистенты гомосексуалистов, пьющие горькую газетчики, художники-декораторы и авторы рекламных буклетов.

Собрание сочинений австрийского писателя Стефана Цвейга (1881–1942) — самое полное из изданных на русском языке. Оно вместило в себя все, что было опубликовано в Собрании сочинений 30-х гг., и дополнено новыми переводами послевоенных немецких публикаций. В третий том вошли роман «Нетерпение сердца» и биографическая повесть «Три певца своей жизни: Казанова, Стендаль, Толстой».

«Заплесневелый хлеб» — третье крупное произведение Нино Палумбо. Кроме уже знакомого читателю «Налогового инспектора», «Заплесневелому хлебу» предшествовал интересный роман «Газета». Примыкая в своей проблематике и в методе изображения действительности к роману «Газета» и еще больше к «Налоговому инспектору», «Заплесневелый хлеб» в то же время продолжает и развивает лучшие стороны и тенденции того и другого романа. Он — новый шаг в творчестве Палумбо. Творческие искания этого писателя направлены на историческое осознание той действительности, которая его окружает.

Во 2 том собрания сочинений польской писательницы Элизы Ожешко вошли повести «Низины», «Дзюрдзи», «Хам».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
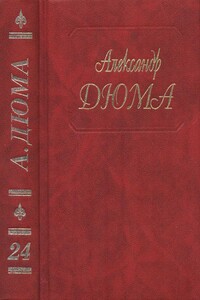
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
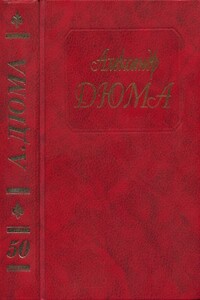
В этом томе предпринята попытка собрать почти все (насколько это оказалось возможным при сегодняшнем состоянии дюмаведения) художественные произведения малых жанров, написанные Дюма на протяжении его долгой творческой жизни.