День саранчи - [114]
Мигель схватил Эйба за глотку. Тот разжал руки, и Эрл свалился на пол. Мексиканец поднял карлика в воздух, перехватил за щиколотки и шваркнул об стену, как кролика о дерево. Он снова размахнулся карликом, чтобы ударить еще раз, но Тод поймал его за руку. Тут же Клод вцепился в Эйба, и вдвоем они отняли его у мексиканца.
Карлик был без сознания. Они отнесли его на кухню и сунули под холодную воду. Он быстро пришел в себя и разразился бранью. Увидев, что он ожил, они вернулись в гостиную.
Мигель вел Эрла к кушетке. У ковбоя сошел весь загар с лица, и оно было мокро от пота. Мигель ослабил на нем пояс, а Клод снял с него галстук и расстегнул воротник.
Фей и Тод наблюдали, стоя в стороне.
— Смотри, — сказала она, — погибла моя новая пижама.
Один рукав был почти оторван, и в прореху выглядывало плечо.
Брюки тоже были разодраны. Пока он смотрел на нее, она расстегнула брюки и переступила через них. На ней были тугие черные кружевные трусики. Он шагнул к ней и заколебался. Она спокойно перебросила штанины через руку, медленно повернулась и пошла к двери.
— Фей, — прошептал Тод.
Она остановилась и улыбнулась ему.
— Я иду спать, — сказала она. — Забери отсюда маленького.
Подошел Клод и взял Тода под руку.
— Давайте смываться.
Тод кивнул.
— И надо захватить гомункула — а то он тут всех поубивает.
Тод опять кивнул и вышел за ним на кухню. Карлик прикладывал к голове большой кусок льда.
— А здоровую шишку набил мне желтопузый.
Он заставил их щупать ее и восхищаться.
— Пойдемте домой, — сказал Клод.
— Нет, — сказал карлик, — пошли к бабам. Я только начал заводиться.
— Ну их к черту, — вмешался Тод. — Пошли отсюда. — Он подтолкнул Эйба к двери.
— Руки придержи, сопляк! — взревел лилипут.
Клод встал между ними.
— Спокойно, граждане, — сказал он.
— Ну ладно, только не толкаться.
Эйб важно двинулся к выходу, они — за ним.
Эрл еще лежал на кушетке. Глаза у него были закрыты, и он обеими руками держал себя за низ живота. Мигеля не было.
Эйб хохотнул и весело помотал головой:
— Уделал я пастуха!
На тротуаре он еще раз попробовал заманить их с собой:
— Пошли, ребята, — получите удовольствие.
— Я иду домой, — сказал Клод.
Они подошли с карликом к его машине и посмотрели, как он забирается в кабину. На тормозе и сцеплении у него были специальные надставки, чтобы он мог дотянуться до них своими крохотными ножками.
— Ну, махнем?
— Нет, спасибо, — вежливо ответил Клод.
— Ну и черт с вами!
Так он с ними попрощался. Он отпустил тормоз, и машина укатилась.
На другое утро, когда Тод проснулся, голова у него раскалывалась. Он позвонил на студию, сказал, что не придет, и до полудня пролежал в постели; затем пошел в город завтракать. После нескольких чашек горячего чая ему стало легче, и он решил навестить Гомера. Он все еще хотел извиниться.
От подъема в гору к Пиньон-Каньону боль в голове начала пульсировать, и он даже обрадовался, что никто не ответил на его настойчивый стук. Собравшись уже уходить, он заметил, что штора в одном окне шевельнулась, и вернулся, чтобы постучать еще раз. Ответа по-прежнему не было.
Он заглянул в гараж. Машина Фей исчезла, так же как и бойцовые петухи. Он подошел к дому сзади и постучал в дверь кухни. Тишина была какой-то чересчур уж полной. Он тронул ручку и обнаружил, что дверь не заперта. Он несколько раз крикнул «эй», чтобы дать о себе знать, и прошел через кухню в гостиную.
Красные бархатные шторы были плотно задернуты, но он разглядел Гомера, который сидел на кушетке, уставясь на свои руки, лежавшие на коленных чашечках. Он был в бумазейной ночной рубахе, босой.
— Только что встали?
Гомер не пошевелился и не ответил.
Тод сделал еще попытку:
— Ну и вечерок!
Он понимал, что глупо изображать бодрячка, но ничего лучше придумать не мог.
— Здорово я вчера перебрал! — продолжал он и даже попытался хихикнуть.
Гомер не обращал на него ни малейшего внимания.
В комнате все оставалось так же, как прошлой ночью. Столы и стулья были перевернуты, разбитая картина валялась на том же самом месте. Чтобы как-то оправдать свое присутствие, он принялся наводить порядок. Он поднял стулья, расправил ковер и собрал раскиданные повсюду окурки. Потом раздвинул шторы и открыл окно.
— Ну, так уже веселее, а? — бодро спросил он.
Гомер на секунду поднял глаза, потом снова уставился на руки. Тод видел, что он постепенно выходит из оцепенения.
— Хотите кофе? — спросил Тод.
Гомер убрал руки с колен и, спрятав под мышками, крепко зажал — но не ответил.
— Горячего кофейку — что вы скажете?
Гомер вынул руки из подмышек и сел на них. Немного погодя он отрицательно помотал головой — медленно, тяжело, как собака с клещом в ухе.
— Я сварю.
Тод вышел на кухню и поставил кофейник на плиту. Пока он закипал, Тод заглянул в комнату Фей. Она была опустошена. Все ящики комода были выдвинуты, на полу валялись пустые коробки. Посреди ковра лежал разбитый флакон духов, и от всего вокруг разило гарденией.
Сварив кофе, Тод налил две чашки и отнес их на подносе в гостиную. Гомера он нашел в той же позиции — сидящим на руках. Тод пододвинул к нему столик и поставил поднос.
— Себе я тоже налил, — сказал он. — Давайте пейте, пока не остыл.

Книга «Шесть повестей…» вышла в берлинском издательстве «Геликон» в оформлении и с иллюстрациями работы знаменитого Эль Лисицкого, вместе с которым Эренбург тогда выпускал журнал «Вещь». Все «повести» связаны сквозной темой — это русская революция. Отношение критики к этой книге диктовалось их отношением к революции — кошмар, бессмыслица, бред или совсем наоборот — нечто серьезное, всемирное. Любопытно, что критики не придали значения эпиграфу к книге: он был напечатан по-латыни, без перевода. Это строка Овидия из книги «Tristia» («Скорбные элегии»); в переводе она значит: «Для наказания мне этот назначен край».

Роман «Призовая лошадь» известного чилийского писателя Фернандо Алегрии (род. в 1918 г.) рассказывает о злоключениях молодого чилийца, вынужденного покинуть родину и отправиться в Соединенные Штаты в поисках заработка. Яркое и красочное отражение получили в романе быт и нравы Сан-Франциско.
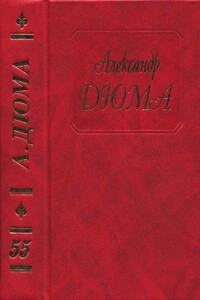
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
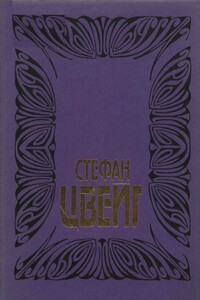
Собрание сочинений австрийского писателя Стефана Цвейга (1881 — 1942) — самое полное из изданных на русском языке. Оно вместило в себя все, что было опубликовано в Собрании сочинений 30-х гг., и дополнено новыми переводами послевоенных немецких публикаций. В девятый том Собрания сочинений вошли произведения, посвященные великим гуманистам XVI века, «Триумф и трагедия Эразма Роттердамского», «Совесть против насилия» и «Монтень», своеобразный гимн человеческому деянию — «Магеллан», а также повесть об одной исторической ошибке — «Америго».

Собрание сочинений австрийского писателя Стефана Цвейга (1881–1942) — самое полное из изданных на русском языке. Оно вместило в себя все, что было опубликовано в Собрании сочинений 30-х гг., и дополнено новыми переводами послевоенных немецких публикаций. В третий том вошли роман «Нетерпение сердца» и биографическая повесть «Три певца своей жизни: Казанова, Стендаль, Толстой».

Во 2 том собрания сочинений польской писательницы Элизы Ожешко вошли повести «Низины», «Дзюрдзи», «Хам».