День и час - [17]
Он поздоровался с вами, вы по уставу ответили ему (и старшина, и командир роты остались довольны: ответ получился таким свирепо-дружным, как будто отвечали Чемберлену), и подполковник неторопливо пошел вдоль строя. Он подходил поочередно к каждому солдату, и цель столь тесного общения вы поняли не сразу.
Помнишь: стояли руки по швам, поедая глазами самое непосредственное (страшнее кошки зверя нет) свое начальство — старшину Зарецкого, — а Муртагин подходил к каждому из вас. Поднимал руку к твоей голове и проверял, как на ней, на твоей голове, сидит твоя солдатская шапка.
Перчатки он снял, и оказалось, что руки у Муртагина теплые. Повертел шапку на твоей голове и прошелся ладонью по шее. Сказал бы «по холке», будь на тот момент хоть малейший намек на холку. Какая холка на землеройных работах! Ствол, на котором еще ничего лишнего. Ладонь прошлась по нему, погладила, даже похлопала дружески: мол, расти большой, да не будь лапшой… Тебя этот жест, может, тронул больше, чем кого-либо другого. Безотцовщина — кто еще вот так, по-мужски, по-отцовски, как работник работника, похлопывал тебя: ступай, дорогой, такова наша мужская доля. Как хомут на ходу поправил…
Шапки сидели неправильно.
Цигейковые, с матерчатым верхом, они то ли от старости, то ли от плохого хранения скукожились, ссохлись и сидели как на свинье ермолка, мелко, на макушке, слетая при мало-мальски шальном порыве ветра, при резком наклоне кумпола. Накануне старшина выдавал шапки без примерки, по списку. Ты пробовал поменять свою не столько из-за того, что маленькая, сколько из-за ее неказистости: уж больно сморщенная, зализанная, даже обсмоктанная, звездочку на такую цеплять стыдно, но старшина легонько так взял тебя за плечи, развернул к двери и, посмеиваясь, выставил из каптерки:
— Носи, Гусев. В этой шапке не один воин помер.
Пошутил.
Подполковник Муртагин шел вдоль строя молча. Старшина Зарецкий первым смекнул, в чем тут дело. Он был смекалист, старшина Зарецкий. К середине обхода он, неотступно следивший за подполковником, вытянувшись во фрунт в хромовых, офицерских — не по уставу — сапогах, в теплом, на вате, бушлате, в шапке с хорошей пушистой цигейкой и суконным верхом (шапка тоже не по чину: офицерская), стал нездорово-малиновым. Так светится, накаляясь, чугунная плита. Темные крупные рябинки, усеивавшие лицо старшины, были как пятна бурой отслаивающейся окалины на этой рдеющей буржуйке.
Последним в строю стоял Абдивали Рузимурадов, узбек. Вообще-то в роте узбеков было много. В большинстве своем веселые, общительные, нежадные — им слали посылки, и они потрошили их прямо в казарме. Каждого оделяли непривычными гостинцами: сушеными, напоминающими слипшиеся сыромятные ремешки полосками дыни, урюком, желтоватыми, тоже липкими кусками, обломками не то сахара, не то засахарившегося меда. Надо сказать, даже то, что, в общем-то, было вам знакомо, в узбекском варианте оказывалось непривычным — непривычно сладким. Виноград — привяленный («На чердаках вялим, каждую кисть вешаем отдельно на ниточке и вялим. Э-э, дарагой, после этой армии приезжай ко мне кишлак, чердак ходить будем, там мно-ого чего есть…»). Но от привяленности гроздь, кажется, еще больше потяжелела. Полновесная, двух-, трехъярусная, с муаровым налетом, сообщившимся ей за те несколько дней, что она успела провести в темном, сдержанно-духовитом, прохладном таинстве восточного чердака, словно кутающаяся в черную, паутинной тонины шаль, кисть царственно хороша. И сладка! — так неожиданно, радостно, проникающе, от кончика языка до кончика пальцев. Так необычно сладка, медвяна, как, кажется, и не может быть сладким ничто живое, не химическое, растущее из грешной земли. Кишмиш — наверное, привялость и придает ему такую дополнительную колдовскую сладость. Заточение, выдержка на чердаке — это как продление вегетации, процесса накопления, добирания сахара или его перехода в другое состояние — в сверхсахар, в мед. Да что виноград — редька у узбеков и та оказывалась сладкой. Крупная, непривычно зеленая и — еще непривычнее — сладкая!
При всей общительности они все-таки больше держались друг друга. Землячества. И общительность была не столько каждого в отдельности, сколько землячества в целом. Довольно замкнутое сообщество, доброжелательно обращенное ко всем, кто его окружает. Рой. Они вообще любили кучковаться: в казарме, в уголке или в Ленинской комнате, обмениваясь полученными из дому письмами (им чаще слали посылки, нежели писали письма), живо и вместе с тем укромно обсуждая какие-то свои домашние новости. На стройке — где-нибудь в удаленном от начальства закутке. При первой же возможности разводят костер. Разживут костерок, соберутся в кружок и посиживают на корточках. Работники послушные, в меру старательные, правда, из всех работ больше всего любили ту, что у нас называлась «варить клей». Готовые квартиры отделывались обоями, для них нужен был клей, разновидность клейстера — его и варили. Точнее, растапливали твердые, окаменевшие куски этого клея в ведрах на костре. Работа плевая, одного человека для нее хватило бы за глаза, но ваши южане — так повелось, что варка клея сразу и без споров оказалась в их ведении, — всегда просились на нее скопом: по двое, по трое, а то и вчетвером. И привлекала их, думаю, опять же не столько легкость этой работы, сколько возможность вот так посидеть вместе у огня.

Легендарная Хазария и современная Россия… Аналогии и аллюзии — не разделит ли Россия печальную участь Хазарского каганата? Автор уверяет, что Хазария — жива и поныне, а Итиль в русской истории сыграл не меньшую роль, чем древний Киев. В стране, находящейся, как и Хазария, на роковом перекрестье двух миров, Востока и Запада, это перекрестье присутствует в каждом. Каждый из нас несет в себе эту родовую невыбродившую двукровность.Седая экзотическая старина и изглубинная панорама сегодняшней жизни, любовь и смерть, сильные народные характеры и трагические обстоятельства, разлуки длиною в жизнь и горечь изгнаний — пожалуй, впервые в творчестве Георгия Пряхина наряду с философскими обобщениями и печальной самоиронией появляется и острый, почти детективный сюжет и фантастический подтекст самых реальных событий.

Повесть о жизни подростков в интернате в послевоенные годы, о роли в их жизни любимого учителя, о чувстве родства, дружбы, которые заменили им тепло семьи.

Роман Юлии Краковской поднимает самые актуальные темы сегодняшней общественной дискуссии – темы абьюза и манипуляции. Оказавшись в чужой стране, с новой семьей и на новой работе, героиня книги, кажется, может рассчитывать на поддержку самых близких людей – любимого мужа и лучшей подруги. Но именно эти люди начинают искать у нее слабые места… Содержит нецензурную брань.
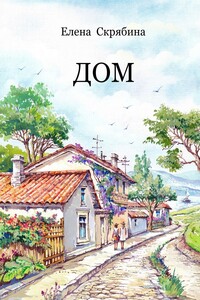
Автор много лет исследовала судьбы и творчество крымских поэтов первой половины ХХ века. Отдельный пласт — это очерки о крымском периоде жизни Марины Цветаевой. Рассказы Е. Скрябиной во многом биографичны, посвящены крымским путешествиям и встречам. Первая книга автора «Дорогами Киммерии» вышла в 2001 году в Феодосии (Издательский дом «Коктебель») и включала в себя ранние рассказы, очерки о крымских писателях и ученых. Иллюстрировали сборник петербургские художники Оксана Хейлик и Сергей Ломако.

В каждом произведении цикла — история катарсиса и любви. Вы найдёте ответы на вопросы о смысле жизни, секретах счастья, гармонии в отношениях между мужчиной и женщиной. Умение героев быть выше конфликтов, приобретать позитивный опыт, решая сложные задачи судьбы, — альтернатива насилию на страницах современной прозы. Причём читателю даётся возможность из поглотителя сюжетов стать соучастником перемен к лучшему: «Начни менять мир с самого себя!». Это первая книга в концепции оптимализма.

Перед вами книга человека, которому есть что сказать. Она написана моряком, потому — о возвращении. Мужчиной, потому — о женщинах. Современником — о людях, среди людей. Человеком, знающим цену каждому часу, прожитому на земле и на море. Значит — вдвойне. Он обладает талантом писать достоверно и зримо, просто и трогательно. Поэтому читатель становится участником событий. Перо автора заряжает энергией, хочется понять и искать тот исток, который питает человеческую душу.

Когда в Южной Дакоте происходит кровавая резня индейских племен, трехлетняя Эмили остается без матери. Путешествующий английский фотограф забирает сиротку с собой, чтобы воспитывать ее в своем особняке в Йоркшире. Девочка растет, ходит в школу, учится читать. Вся деревня полнится слухами и вопросами: откуда на самом деле взялась Эмили и какого она происхождения? Фотограф вынужден идти на уловки и дарит уже выросшей девушке неожиданный подарок — велосипед. Вскоре вылазки в отдаленные уголки приводят Эмили к открытию тайны, которая поделит всю деревню пополам.

Генерал-лейтенант Александр Александрович Боровский зачитал приказ командующего Добровольческой армии генерала от инфантерии Лавра Георгиевича Корнилова, который гласил, что прапорщик де Боде украл петуха, то есть совершил акт мародёрства, прапорщика отдать под суд, суду разобраться с данным делом и сурово наказать виновного, о выполнении — доложить.