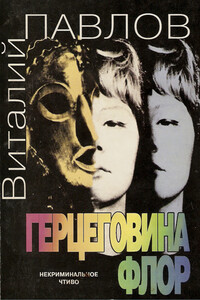День чудес - [16]
Все…
Тогда это слово тоже стучало в висках. Стучало, когда его несли с поля на носилках «скорой», когда накладывали в больнице гипс. Он помнил лицо этого рыжего парня, а потом яркая вспышка, как в свежевыбеленной комнате от двухсотсвечевой лампочки, и номер на спине, который, казалось, горел, когда Виктор выбегал на поле, погас от этой вспышки. Потом больница, запах, им он пропитался насквозь, его нога, как будто чужая висящая на конструкции, похожей на детский подъемный кран, потом костыли, зима, опять весна и все, все с самого начала… Сегодня он добрался до конца. Добрался через знакомую ему по другим славу, которую на себе он ощущал, как вещь, через почитание фанатов, среди которых были и дети, и совсем взрослые, и мужчины, и женщины. Одни предлагали достать вещи, другие — билеты, третьи — продукты и все, что угодно. Он добрался конца через сотни игр, где он блистал, и через совсем ужасные, когда покидал поле под свист, через уколы новокаина, через постоянные крики неизвестного мужика: «Быстрый — чаловек!», именно «ча», он кричал «ча-ло-век», через сотни стадионов, мимо людей, узнающих его на улицах и в автобусах, мимо чьей-то устроенной жизни, мимо, сквозь, через…
Все это спрессовалось в жизнь, которую «прожить — не поле перейти», а она оказалась действительно полем, зеленым, лежащим от ворот до ворот. И прошел он ее одним мощным ударом, как мяч выбил — от ворот — до ворот. Вот входные, которые закрылись для него, а вот и выходные, где топчется Захар, спрашивая у идущих мимо людей:
— Ты помнишь меня? Я — Захар! Я — Алексей Захарченко! Я играл здесь…
И те, и эти ворота открылись и закрылись для Быстрова поднятием деревянной таблички с девятым номером. Закрылись, как однажды двери его холостяцкой квартиры. Все это прошло, проехало, завершилось, и отчеркнуто уже толстой линией мягкого чертежного карандаша.
Все…
В этом слове уместились для Виктора все его воспоминания, пролетевшие за время, пока он опустился на скамейку, взял полотенце, а диктор начал сообщать на весь стадион то, что решил три года назад Виктор Быстров, решил сам, но диктор неизвестно откуда догадался об этом.
Вот он говорит мрачно и весело одновременно:
— Вместо выбывшего из игры…
Рыбный день
(Повесть)
Все началось с того, что ко мне зачастил Генка…
…Мы жили когда-то рядом. Их дом — старинный, солидный, с лепными балконами — не то, что наш — ничего лишнего: красные квадраты окон, красные решетки балконов. Генка приходил в наш двор играть в футбол. Играл он плохо. Чаще попадал по ногам, чем по мячу. Его брали в команду для устрашения и еще за то, что его мать нашивала на наши тусклые майки одинаковые буковки «Т» — «Торпедо».
Наш двор.
У каждого есть свой двор. Мой двор казался мне тогда огромным букетом цветов. Его дурманящий аромат настолько въелся в мою память, что я иногда явственно чувствую его и теперь.
По вечерам, когда футбольные страсти утихали, жильцы высыпали с ведрами поливать грядки. И мы, еще не остывшие после игры, носились по двору, разрываясь пополам под тяжестью двух ведер. А когда становилось совсем темно, на скамейку усаживались двое с аккордеоном и гитарой и пели, как по радио. Жильцы открывали окна под переборы гитары, выходили на балконы, слушая трофейный аккордеон, и вечера были длинные и тихие.
Телевизоров у нас тогда не было. Ни одного.
Потом мы шли в школу. С огромными букетами цветов. Кололась щетинистая форма, колотилось сердце, как во время футбола. Мы старались не отставать от взрослых мальчишек, уже забывших о том, что пять лет назад они шли точно с такими же букетами, как и мы.
Постепенно я вырос из формы, перестал гонять на переменах в футбол, начал писать глупые записки одноклассницам, одним словом, — повзрослел. В доме у каждой семьи теперь был свой телевизор, и никто не выходил по вечерам с аккордеоном и гитарой, а в окна выглядывали только когда кто-то кричал, что опять под его балконом поставили машину.
Тогда в нашем доме никто не умирал…
В девятом классе я сделал свою первую электрогитару. Вырезал сапожным ножом из куска пенопласта. Она была очень похожа на настоящую, если на нее смотреть издали, вблизи же, сбоку она больше напоминала лук, только с шестью жилами тетивы вместо одной.
Такой автоматический шестизарядный лук.
Играть на такой гитаре не было никакой возможности, но мы играли. Одноклассницы смотрели на нас такими глазами, будто это были не мы, а четверо идолов из Ливерпуля, и теперь уже они нам писали глупые записки. Мы летели на гребне докатившейся до нас волны грохотавшего где-то далеко урагана по имени Битломания. Мы пытались отпустить волосы, а родители и учителя безжалостно стригли наши желания. Но мы пели. Пели на всех школьных вечерах.
«Закрой глаза, и я поцелую тебя…».
А потом все вдруг закончилось. Чихали тарелки духового оркестра, когда нам выдавали аттестаты, плакали мама и сестра в полупустом зале какого-то клуба, мы повзрослели и целовали дождливым утром после выпускной ночи одноклассниц и губы.
Дождь в дорогу — хорошая примета.
Я двигался прямо. Передо мной были дубовые двери института. Меня знали там. Еще учась в школе, я выступал за их команду борцов и пел в институтской самодеятельности. Вообще, по словам тренера, у меня, как у борца классического стиля, были перспективы на будущее. Я резко подворачивал бедро, хорошо «мостил» и проходил в корпус. Мне надо было выбирать — между музыкой и спортом. В институте я выбрал спорт, хотя пел на всех курсовых вечерах. Мы учились одной большой командой, вместе тренировались, вместе ездили на сборы, только у меня была еще… Люда.

«Кто лучше знает тебя: приложение в смартфоне или ты сама?» Анна так сильно сомневается в себе, а заодно и в своем бойфренде — хотя тот уже решился сделать ей предложение! — что предпочитает переложить ответственность за свою жизнь на электронную сваху «Кисмет», обещающую подбор идеальной пары. И с этого момента все идет наперекосяк…

Самое завораживающее в этой книге — задача, которую поставил перед собой автор: разгадать тайну смерти. Узнать, что ожидает каждого из нас за тем пределом, что обозначен прекращением дыхания и сердцебиения. Нужно обладать отвагой дебютанта, чтобы отважиться на постижение этой самой мучительной тайны. Талантливый автор романа `После запятой` — дебютант. И его смелость неофита — читатель сам убедится — оправдывает себя. Пусть на многие вопросы ответы так и не найдены — зато читатель приобщается к тайне бьющей вокруг нас живой жизни. Если я и вправду умерла, то кто же будет стирать всю эту одежду? Наверное, ее выбросят.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Шестеро друзей — сотрудники колл-центра крупной компании.Обычные парни и девушки современной Индии — страны, где традиции прошлого самым причудливым образом смешиваются с реалиями XXI века.Обычное ночное дежурство — унылое, нескончаемое.Но в эту ночь произойдет что-то невероятное…Раздастся звонок, который раз и навсегда изменит судьбы всех шестерых героев и превратит их скучную жизнь в необыкновенное приключение.Кто же позвонит?И что он скажет?..

Перед вами настоящая человеческая драма, драма потери иллюзий, убеждений, казалось, столь ясных жизненных целей. Книга написана в жанре внутреннего репортажа, основанного на реальных событиях, повествование о том, как реальный персонаж, профессиональный журналист, вместе с семьей пытался эмигрировать из России, и что из этого получилось…
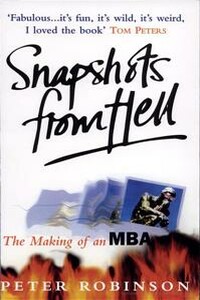
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.