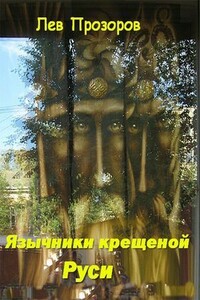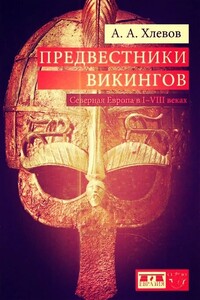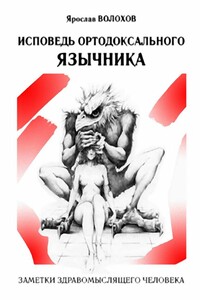и
по сменяется полной (и ставшей общепринятой) корреляцией. Если согласно «Чу цы» самодвижением наделены только души хунь, а души по лишь движимы ими, то в «Ли юнь» о двух типах душ говорится как о равно самодвижущихся и взаимосвязанных началах с противоположными характеристиками. По существу эта глава «Ли цзи» фиксирует завершение формирования учения о душах
хунь и
по, которые оказываются квазиматериальными энергийными образованиями. Их существование обусловлено наличием тела, после смерти которого они оказываются не способными к сколько-нибудь длительному самостоятельному существованию. В таком виде учение о душах хунь и по и войдет в даосизм. Отметим, что весьма характерна тенденция становления учения о душах: не от натуралистического анимизма к идеалистической психологии, а исключительно развитие, конкретизация и, отчасти, рационализация исходной натуралистической модели, что делало маловероятным формирование в Китае учения о бестелесном бессмертии за гробом. Трудно сказать, и когда появилось в Китае представление о подземном царстве теней, наподобие античного
гадеса или древнееврейского
шеола, — «желтом источнике» (
хуан цюань). Видимо, оно весьма архаично, поскольку вера в нисхождение душ умерших в нижний, подземный, мир (аналогичный миру «желтого источника») достаточно распространена у различных народов с шаманскими верованиями (например, у народов Сибири), что свидетельствует о глубокой древности подобных представлений, восходящих еще к эпохе родового общества. Первое же письменное упоминание о «желтом источнике» относится летописью «Цзо чжуань» к 721 году до н. э., однако о
хуан цюань стали писать часто только начиная с эпохи Хань. Вместе с тем вера в тенеподобное призрачное существование души после смерти, несомненно, была характерна для южной (чуской) религиозной традиции периода Чжань-Го. Так, в «Призывании души», входящем в корпус «чуских строф», говорится не только о путешествии души на небо, но и о схождении ее в наполненный опасностями (как, впрочем, и небесный) нижний мир с его подземным градом Сюаньду (Темный град). В этом же тексте говорится о некоем рогатом подземном божестве Тубо (или девяти божествах Тубо). Новые археологические находки (особенно в Чанша-Мавандуй) позволили значительно лучше понять содержание «Призывания души». В частности, на шелках из мавандуйских погребений (раскопки в Чанша-Мавандуй 1972–1974 гг.) изображены и духи подземного мира Тубо. Подземный мир иерархизован: у его правителя есть слуги, помощники и чиновники. Не исключено также, что, подобно небесному, подземный мир делился на девять частей, или слоев. В таком случае девять Тубо могли быть божествами каждого из этих слоев. Интересно, что в мавандуйских погребениях бессмертие души хунь на небе и души по под землей, по-видимому, ставится в зависимость от сохранения тела как субстанциальной основы единства душ и условия их существования (что в какой-то степени сближает чуские религиозные представления с древнеегипетскими). Действительно, консервация тела княгини Дай, с помощью которой была достигнута его поразительная сохранность (не исчезла даже эластичность тканей), свидетельствует в пользу этого предположения. В качестве гипотезы можно предположить и то, что создатели уникального погребения княгини надеялись в последующем при помощи совершения магических ритуалов добиться воссоединения с телом душ
хунь и
по (в свою очередь сохранившихся благодаря нетлению тела) и воскрешения княгини Дай в трансформированном теле как «бессмертной, освободившейся от трупа» (
ши цзе сянь). Но конкретными подтверждениями подобной гипотезы наука пока не располагает. В завершение обзора древнекитайских представлений о посмертном существовании следует отметить, что еще до проникновения в Китай буддизма там возникли зачатки веры в загробную жизнь. Подавляющее большинство текстов, в том числе и даосских, говорило о воздаянии (
бао) либо в земной жизни самого человека, совершившего те или иные поступки, либо о перенесении воздаяния на его потомков (
чэн фу) — наказанием за поступки считалось, как правило, сокращение срока жизни. Тем не менее, постепенно появляется вера в божество горы Тайшань, вершащее суд над душами умерших, и в подземные обители, расположенные, видимо, под горой Тайшань, Гаоли и Лянфу — дальнейшее развитие идеи «желтого источника». Позднее эти представления слились с буддийским учением о воздаянии, что привело к формированию образа Яньлована (Ямараджи) и постепенному проникновению этого и других сходных образов в собственно даосизм, что становится заметным со времени деятельности знаменитого даосского мыслителя и медика Тао Хун-цзина (456–536 гг.). Сказанным по существу и исчерпываются представления древних китайцев о посмертном существовании. Все остальное читатель узнает уже из самого текста книги де Гроота.
Возвращаясь к тексту труда голландского ученого, нельзя не выразить восхищение широтой его источниковедческой базы. Видно, что автор прочитал огромное количество труднейших китайских текстов самых разных эпох — это классические конфуцианские каноны и философские тексты, династийные истории разных эпох, китайская новелла, медицинские сочинения, редкие географические сочинения и многое другое. Остается только удивляться, как один человек мог проработать такое количество китайских источников, львиная доля которых тогда не только не была переведена на европейские языки, но и не была известна большинству синологов. И в отношении обилия фактического материала (как и во многих других отношениях) труд де Гроота совершенно не устарел, несмотря на прошедшие десятилетия, и не только широкий читатель, но и специалисты-синологи найдут здесь для себя много нового и интересного.