Демон и Лабиринт - [23]
Но именно чрезмерное подчеркивание марионеточного автоматизма, чрезмерность жеста придают ему характер телесного события, наполненного смыслом. То, что Голядкин прячет за ширмой
50
сверхбыстрого автоматизма, в действительности лишь обнаруживает себя. Жест не камуфлируется, а экспонируется и тем самым предлагается наблюдателю как наполненный смыслом текст.
Происходящее напоминает не столько танец, сколько пантомиму. Мим также обычно изображает легко опознаваемые и наиболее привычные жесты и действия: он показывает, как он идет по улице, срывает и нюхает цветок, выпивает чашку кофе. Репертуар его действий столь банален, что, вообще говоря, не требует никакой специальной техники для их имитации. Однако мим имитирует их, заведомо преувеличивая. Более того, он как бы разрушает автоматизированность каждого имитируемого им жеста. Для того чтобы добиться этого, мим обучается дезартикулированию каждого движения. Автоматизированная схема жеста уничтожается, и на ее место подставляется странная жестикуляционная синтагма, в которой движение руки дезартикулировано таким образом, чтобы нарушить стереотипную связь между движением плеча, предплечья и кисти. Суставы приобретают неожиданное значение каких-то фильтров, не пропускающих через себя кодифицированную жестикуляционную схему. В результате складывается странное впечатление, будто кисть движется отдельно от предплечья, а предплечье отдельно от плеча, хотя общая семантика жеста и сохраняется.
Дезартикуляция жеста при всей ее подчеркнутости накладывается на повышенную пластическую взаимосвязанность отдельных частей. Перед наблюдателем разворачиваются одновременно фрагментация жестикуляционной синтагмы, ее членение на фрагменты и новое сплетение этих фрагментов в некое неразделимое целое. Речь идет, по существу, о перераспределении акцентов внутри синтагмы, о ее переартикуляции, которая не может прочитываться иначе, как разрушение жестикуляционной спонтанности, как дезавтоматизация жеста, а следовательно, и его смысла.
Выбор банального действия должен прочитываться на этом фоне. Привычный и не имеющий особого смысла жест пьющего человека неожиданно приобретает какое-то особое значение. Он становится столь "содержательным", что заставляет зрителей с интересом наблюдать за его имитацией.
Дезавтоматизация жеста и его переартикуляция -- это именно то, что происходит со многими персонажами Гоголя и что так явственно подчеркнуто в поведении садящегося и встающего Голядкина. То же самое можно сказать и о жестикуляционной чрезмерности.
Эта чрезмерность лежит, по мнению Хосе Жиля, в основе чтения пантомимы. Он указывает, что тело мима
"производит больше знаков, чем обыкновенно. Каким образом мим показывает нам, что он пьет чашку кофе? Его жест не является простым воспроизведением привычного жеста руки, которая вытягивается, пальцев, берущихся за ручку, руки, поднимающейся на высоту рта; перед нами
51
множество артикуляций, каждая жестовая фраза преувеличена, она содержит множество микрофраз, которых раньше в ней не было. Жест питья вырастает, становится барочным; чтобы показать, что чашка наклоняется к губам, рука взлетает высоко вверх причудливым движением. Мим, таким образом, подменяет речь; микроскопические сочленения занимают место слов, но говорят иначе, чем слова" (Жиль 1985:101).
Я не могу согласиться с Жилем, что речь идет о производстве неких псевдослов. Речь, на мой взгляд, идет о подчеркнутом деформировании нормативной синтагматичности движения. Деформирование это преувеличено (то, что Жиль описывает как перепроизводство знаков), потому что, как и всякое деформирование, отсылает к определенной энергетике. Тело действует так, как будто к нему приложена некая сила, способная нарушить кодифицированность затверженных и стертых движений. Тело становится местом приложения силы, действующей на него извне, оно превращается в тело робота, автомата, марионетки и одновременно удваивается призраком демона, которого оно имитирует.
Отсюда двойной эффект мимирующего тела -- это тело не производящее движения, но имитирующее движения. Мим никогда не стремится обмануть публику естественностью своих движений. Наоборот, он стремится обнаружить подлинную имитационность своего поведения. Как выразился Деррида, "он имитирует имитацию". Этот двойной мимесис обнаруживается только в формах деформаций, то есть в формах обнаружения внешних сил и энергий. Барочность жеста и есть проявление внешней силы. Почему жесты мима чрезмерны? Почему, поднося руку с воображаемой чашкой ко рту, он вздымает ее высоко вверх? Да потому, что он именно разыгрывает избыточность силы, приложенной к его руке.
Генрих фон Клейст обозначил бы это явление как антигравитационность марионеточного тела. Но антигравитационность означает только одно -- к телу приложена сила, превышающая силу гравитации. Когда Голядкин мгновенно садится, немедленно вскакивает и решительно садится вновь, он воспроизводит действие некоего невидимого механизма, некой пружины, которая деформирует "нормальную" механику тела избыточностью энергии. Перепроизводство знаков в пантомиме поэтому может пониматься как продукт игры сил. Существенно, конечно, то, что эта игра сил создает такое сложное перераспределение артикуляций, что она порождает иллюзию некоего содержательного текста. Тело дается наблюдателю как тело полное смысла (перепроизводящее знаки), а потому особенно "содержательное". Правда, ключей для чтения этого содержания не Дается. Энергетическое тело, тело деперсонализирующееся в конвульсиях, немотивированном поведении, приступе миметического смеха, создает иллюзию смысловой наполненности, лишь отражающей видимость энергетического избытка.

Франция привыкла считать себя интеллектуальным центром мира, местом, где культивируются универсальные ценности разума. Сегодня это представление переживает кризис, и в разных странах появляется все больше публикаций, где исследуются границы, истоки и перспективы французской интеллектуальной культуры, ее место в многообразной мировой культуре мысли и словесного творчества. Настоящая книга составлена из работ такого рода, освещающих статус французского языка в культуре, международную судьбу так называемой «новой французской теории», связь интеллектуальной жизни с политикой, фигуру «интеллектуала» как проводника ценностей разума в повседневном общественном быту.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В эту книгу вошли статьи, написанные на основе докладов, которые были представлены на конференции «„Революция, данная нам в ощущениях“: антропологические аспекты социальных и культурных трансформаций», организованной редакцией журнала «Новое литературное обозрение» и прошедшей в Москве 27–29 марта 2008 года. Участники сборника не представляют общего направления в науке и осуществляют свои исследования в рамках разных дисциплин — философии, истории культуры, литературоведения, искусствоведения, политической истории, политологии и др.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга Михаила Ямпольского — запись курса лекций, прочитанного в Нью-Йоркском университете, а затем в несколько сокращенном виде повторенного в Москве в «Манеже». Курс предлагает широкий взгляд на проблему изображения в природе и культуре, понимаемого как фундаментальный антропологический феномен. Исследуется роль зрения в эволюции жизни, а затем в становлении человеческой культуры. Рассматривается возникновение изобразительного пространства, дифференциация фона и фигуры, смысл линии (в том числе в лабиринтных изображениях), ставится вопрос о возникновении формы как стабилизирующей значение тотальности.
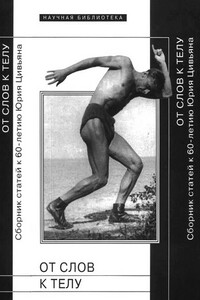
Сборник приурочен к 60-летию Юрия Гаврииловича Цивьяна, киноведа, профессора Чикагского университета, чьи работы уже оказали заметное влияние на ход развития российской литературоведческой мысли и впредь могут быть рекомендованы в списки обязательного чтения современного филолога.Поэтому и среди авторов сборника наряду с российскими и зарубежными историками кино и театра — видные литературоведы, исследования которых охватывают круг имен от Пушкина до Набокова, от Эдгара По до Вальтера Беньямина, от Гоголя до Твардовского.

Вторая книга о сказках продолжает тему, поднятую в «Страшных немецких сказках»: кем были в действительности сказочные чудовища? Сказки Дании, Швеции, Норвегии и Исландии прошли литературную обработку и утратили черты древнего ужаса. Тем не менее в них живут и действуют весьма колоритные персонажи. Является ли сказочный тролль родственником горного и лесного великанов или следует искать его родовое гнездо в могильных курганах и морских глубинах? Кто в старину устраивал ночные пляски в подземных чертогах? Зачем Снежной королеве понадобилось два зеркала? Кем заселены скандинавские болота и облик какого существа проступает сквозь стелющийся над водой туман? Поиски ответов на эти вопросы сопровождаются экскурсами в патетический мир древнескандинавской прозы и поэзии и в курьезный – простонародных легенд и анекдотов.

В книге члена Пушкинской комиссии при Одесском Доме ученых популярно изложена новая, шокирующая гипотеза о художественном смысле «Моцарта и Сальери» А. С. Пушкина и ее предвестия, обнаруженные автором в работах других пушкинистов. Попутно дана оригинальная трактовка сверхсюжера цикла маленьких трагедий.
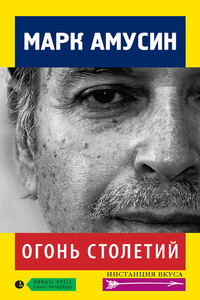
Новый сборник статей критика и литературоведа Марка Амусина «Огонь столетий» охватывает широкий спектр имен и явлений современной – и не только – литературы.Книга состоит из трех частей. Первая представляет собой серию портретов видных российских прозаиков советского и постсоветского периодов (от Юрия Трифонова до Дмитрия Быкова), с прибавлением юбилейного очерка об Александре Герцене и обзора литературных отображений «революции 90-х». Во второй части анализируется диалектика сохранения классических традиций и их преодоления в работе ленинградско-петербургских прозаиков второй половины прошлого – начала нынешнего веков.

Что мешает художнику написать картину, писателю создать роман, режиссеру — снять фильм, ученому — закончить монографию? Что мешает нам перестать искать для себя оправдания и наконец-то начать заниматься спортом и правильно питаться, выучить иностранный язык, получить водительские права? Внутреннее Сопротивление. Его голос маскируется под голос разума. Оно обманывает нас, пускается на любые уловки, лишь бы уговорить нас не браться за дело и отложить его на какое-то время (пока не будешь лучше себя чувствовать, пока не разберешься с «накопившимися делами» и прочее в таком духе)

В настоящее издание вошли литературоведческие труды известного литовского поэта, филолога, переводчика, эссеиста Томаса Венцлова: сборники «Статьи о русской литературе», «Статьи о Бродском», «Статьи разных лет». Читатель найдет в книге исследования автора, посвященные творчеству Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, поэтов XX века: Каролины Павловой, Марины Цветаевой, Бориса Пастернака, Владислава Ходасевича, Владимира Корвина-Пиотровского и др. Заключительную часть книги составляет сборник «Неустойчивое равновесие: Восемь русских поэтических текстов» (развивающий идеи и методы Ю. М. Лотмана), докторская диссертация автора, защищенная им в Йельском университете (США) в 1985 году.

Книга «Реализм Гоголя» создавалась Г. А. Гуковским в 1946–1949 годах. Работа над нею не была завершена покойным автором. В частности, из задуманной большой главы или даже отдельного тома о «Мертвых душах» написан лишь вводный раздел.Настоящая книга должна была, по замыслу Г. А. Гуковского, явиться частью его большого, рассчитанного на несколько томов, труда, посвященного развитию реалистического стиля в русской литературе XIX–XX веков. Она продолжает написанные им ранее работы о Пушкине («Пушкин и русские романтики», Саратов, 1946, и «Пушкин и проблемы реалистического стиля», М., Гослитиздат, 1957)