Давид Юм - [32]
Юм не был последовательным субъективным идеалистом, и как агностик он отрицает наличие у эстетических переживаний не объективной основы вообще, но лишь вполне определенной объективной основы. Как бы то ни было, искания обращаются пока по-прежнему в общем в противоположную сторону, то есть к субъекту. Но субъективным направлением анализа Юм не ограничивается. Напомним, что и агностик Кант, повторивший вслед за Юмом, что о вкусах не спорят, отнюдь не ограничился субъективизацией эстетики и приложил много усилий для поисков общеобязательных ее принципов. Что именно так обстоит дело у Канта, известно довольно широко, но часто забывают, что так же обстоит дело и у Юма.
Как чувственность (ощущения) субъекта воздействует на его чувства (эмоции)? Какой функцией обладают сладость и горечь, счастье и горе при формировании аффектов прекрасного и безобразного? Что именно происходит с сенситивными переживаниями в нашем сознании при образовании эстетических представлений? Есть ли что здесь общезначимое и в этом, а может быть, и в других смыслах объективное? Так Юм ставит вопросы.
Поскольку Юм принял не всю теорию познания Беркли полностью, а только отдельные ее положения, дальнейший путь его анализа раздваивается. Одна линия рассуждений подводит к положению, что эстетические идеи выводятся из впечатлений или хотя бы находятся с ними в строго упорядоченном отношении. Это соответствие, созвучное тезису Юма о производности идей от впечатлений, отвергается другой линией рассуждений, которая превращает решение им проблемы, так сказать, в «одноплоскостный» феноменализм: эстетические представления сами суть впечатления, а именно впечатления рефлексии. Правда, вопрос о соответствии не снимается и при этой второй линии: ведь, согласно гносеологии Юма, впечатления-эмоции зависят от впечатлений-ощущений. Но как именно их зависимость реализуется в области эстетических феноменов, читателю остается неясным.
Прояснить этот вопрос и сделать ответ на него более определенным — разумеется, до той степени, которая была возможна для XVIII в., — могло лишь возвращение к материализму Локка и дальнейшее его развитие. В этом случае эстетические чувства как идеи зависят уже не от «безродных» впечатлений, а от впечатлений, порожденных в нас именно внешними объектами, в том числе, конечно, и произведениями искусства.
Преградой на пути к этому возвращению стал агностицизм, и Юм, как и в некоторых других случаях, избирает компромиссный путь, близкий все же ко второй линии. Когда в «Трактате о человеческой природе» он определяет красоту как форму, вызывающую в сознании человека удовольствие, а безобразие — как форму, которая порождает отвращение (см. 19, т 1, стр. 428), то он относит эстетические чувства к области как идей, так и впечатлений. Иначе говоря, эстетическая эмоция порождается эстетическим же впечатлением. Но, спрашивается, по какому закону она порождается и каким образом при этом сохраняется действие общего принципа соотношения идей и впечатлений, то есть как достигается какое-то сходство первых со вторым? Ответ не был дан ни Юмом, ни его последователями.
Обратим внимание на то, что даже в наше время, когда есть возможность исходить из марксистско-ленинской теории отражения, при решении этого вопроса (разумеется, сформулированного уже в иных терминах) обнаружились значительные трудности. Ведь как раз в данном случае тезис о «сходстве» теряет обычный смысл, ибо состав впечатлений — это ощущения цвета, блеска, очертаний, звука и т. д., но никогда не ощущения прекрасного и безобразного, возвышенного и низменного и т. д. Иными словами, чтобы применить к эстетическим чувствам, представлениям и понятиям теорию отражения, необходим ряд вспомогательных, но весьма существенных уточнений.
Конечно, у эстетических представлений действительно есть некоторая аналогия с ощущениями, но заключается она не в том, в чем ее вслед за Беркли искал Юм. Аналогия здесь далека от подобия, потому что в эстетических переживаниях в отличие даже от интеро-, а тем более от экстерорецептивных ощущений роль субъекта гораздо более велика. Эстетические представления и переживания не могут быть исследованы без учета особенностей отношения субъекта к воспринимаемому, то есть вне фактора активности субъекта. Эта активность состоит в модальной специфичности и избирательности духовной деятельности, а также в установке субъекта на упреждение и предвидение. Но кроме того, она заключается в ценностном преломлении эстетических переживаний и в самом процессе их формирования через внутреннюю позицию личности.
В атмосфере полной субъективности Юму было не по себе, и он отправился на поиски объективности. Поэтому, когда в третьей книге «Трактата о человеческой природе» он пишет, что прекрасное — это качество, зависящее от отношения людей к вещам, он дополняет это указанием на то, что данное отношение зависит от чувств эгоизма и симпатии, то есть от таких составляющих человеческой природы, которые «устремлены» за пределы узкосубъективного мира вовне, в объективный мир.
2. Прекрасное как полезное и целесообразное. Проблема художественной правды
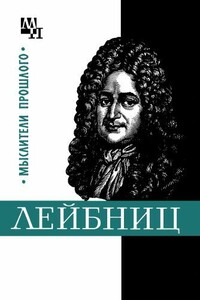
В книге дается анализ метода и философской системы Лейбница, мыслителя, предвосхитившего многие философские и научные идеи XIX–XX вв. Автор разбирает основные произведения Лейбница, излагает его учение о бытии, теорию познания, этику.Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся историей философии, а также историей науки.
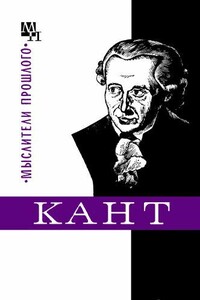
Иммануил Кант (1724–1804) — родоначальник немецкой классической философии. В книге дается краткий биографический очерк, общая характеристика эпохи. Сжатое и вместе с тем всестороннее освещение получило мировоззрение Канта — его теория познания, этика, эстетика, социология и антропология — с марксистских позиций; анализируется роль Канта в возникновении и дальнейшем развитии диалектики в классическом немецком идеализме XIX в.; показано значение творчества Канта для философии марксизма.

В книге, название которой заимствовано у Аристотеля, представлен оригинальный анализ фигуры животного в философской традиции. Животность и феномены, к ней приравненные или с ней соприкасающиеся (такие, например, как бедность или безумие), служат в нашей культуре своего рода двойником или негативной моделью, сравнивая себя с которой человек определяет свою природу и сущность. Перед нами опыт не столько даже философской зоологии, сколько философской антропологии, отличающейся от классических антропологических и по умолчанию антропоцентричных учений тем, что обращается не к центру, в который помещает себя человек, уверенный в собственной исключительности, но к периферии и границам человеческого.

Опубликовано в журнале: «Звезда» 2017, №11 Михаил Эпштейн Эти размышления не претендуют на какую-либо научную строгость. Они субъективны, как и сама мораль, которая есть область не только личного долженствования, но и возмущенной совести. Эти заметки и продиктованы вопрошанием и недоумением по поводу таких казусов, когда морально ясные критерии добра и зла оказываются размытыми или даже перевернутыми.

Книга содержит три тома: «I — Материализм и диалектический метод», «II — Исторический материализм» и «III — Теория познания».Даёт неплохой базовый курс марксистской философии. Особенно интересена тем, что написана для иностранного, т. е. живущего в капиталистическом обществе читателя — тем самым является незаменимым на сегодняшний день пособием и для российского читателя.Источник книги находится по адресу https://priboy.online/dists/58b3315d4df2bf2eab5030f3Книга ёфицирована. О найденных ошибках, опечатках и прочие замечания сообщайте на [email protected].

Эстетика в кризисе. И потому особо нуждается в самопознании. В чем специфика эстетики как науки? В чем причина ее современного кризиса? Какова его предыстория? И какой возможен выход из него? На эти вопросы и пытается ответить данная работа доктора философских наук, профессора И.В.Малышева, ориентированная на специалистов: эстетиков, философов, культурологов.

Данное издание стало результатом применения новейшей методологии, разработанной представителями санкт-петербургской школы философии культуры. В монографии анализируются наиболее существенные последствия эпохи Просвещения. Авторы раскрывают механизмы включения в код глобализации прагматических установок, губительных для развития культуры. Отдельное внимание уделяется роли США и Запада в целом в процессах модернизации. Критический взгляд на нынешнее состояние основных социальных институтов современного мира указывает на неизбежность кардинальных трансформаций неустойчивого миропорядка.

Монография посвящена исследованию становления онтологической парадигмы трансгрессии в истории европейской и русской философии. Основное внимание в книге сосредоточено на учениях Г. В. Ф. Гегеля и Ф. Ницше как на основных источниках формирования нового типа философского мышления.Монография адресована философам, аспирантам, студентам и всем интересующимся проблемами современной онтологии.

В книге рассматриваются жизненный путь и сочинения выдающегося английского материалиста XVII в. Томаса Гоббса.Автор знакомит с философской системой Гоббса и его социально-политическими взглядами, отмечает большой вклад мыслителя в критику религиозно-идеалистического мировоззрения.В приложении впервые на русском языке даются извлечения из произведения Гоббса «Бегемот».

Н. Милеску Спафарий (1635–1708) — дипломат, мыслитель, ученый, крупнейший представитель молдавской и русской культуры второй половины XVII — начала XVIII в. Его трудами было положено начало развитию в Молдавии философии как самостоятельной науки.В книге рассматривается жизненный и творческий путь мыслителя, его философские взгляды, а также его дипломатическая деятельность.

Книга посвящена одному из крупнейших мыслителей второй половины XVIII — начала XIX века. Особое внимание в ней уделяется творческой биографии мыслителя. Философское и естественнонаучное мировоззрение Гёте представлено на фоне духовного развития Европы Нового времени.Для широкого круга читателей.

Книга посвящена жизни и творчеству великого арабского мыслителя XIV - начала XV в. Ибн-Хальдуна, предпринявшего попытку объяснить развитие общества материальными условиями жизни людей. В ней рассматриваются и общефилософские, экономические и социально-политические взгляды философа. Особое внимание уделено его концепции государства. Книга предназначается всем интересующимся историей философии и социально-политической мысли.