Даниэль и все все все - [47]
Хотя культура, как мы теперь знаем, релятивна…
III. Синие кошки
Яблоко, рыба, яйцо
Когда мы пришли в мастерскую, мне сразу стало ясно, что Юло Соостер – гений.
Это не свидетельствует о моей проницательности. Просто в ту пору мы полагали, что вокруг нас немало гениев, и носились по мастерским московских художников в надежде открыть кого-нибудь. Ведь были случаи – Ван Гог хотя бы: никто не понимает, но мы-то поймем!
Шестидесятые годы только начинались. Художники учились свободе. Они допрашивали свой внутренний мир и прислушивались, ожидая ответа. От себя ждали прозрения, от нас – признания.
Мне запомнилось просторное ателье с окном в потолке, куда три живописца однажды втащили литографский станок, устремившись создать нечто эдакое – как у Пикассо. Они водили по бумаге сконфуженной кистью. Станок же печатал гнусные кляксы.
Юло Соостер обитал в невозможном дровянике. Из отопительных приборов у него была то ли свечка, то ли лампа. Юло над нею держал лист, чтобы на бумаге образовался опаленный круг. Он тогда рисовал яблоко. Все кругом было в бумажках, на которых нарисовано было яблоко – контуром, штрихом и точками. У яблок был коричневый обожженный бок.
Это были очень странные яблоки. Крепкие и тяжелые, они существовали мудро и мощно, как планеты. Яблоки были похожи на Соостера, хотя он не был круглым, наоборот, грубовато рублен и крепко сколочен. На него был отпущен материал с более тяжелым удельным весом, чем на других людей.
Наверное, ему одному была известна некая наука о свойствах яблок, нарисованных на бумаге.
По-моему, он сам себе устроил академию.
В прошлом сезоне он изучал яйцо.
Во всяком случае, он знал, чего хочет.
Выжить в таком сарае мог зимой только эстонец, подумала я. На самом деле там еще обитал Илья Кабаков.
Эстонец по‐русски говорил не спеша, оснащая речь множеством свистящих в ущерб иным звукам. Он был невозмутим, но, возмутившись, забывал русский.
В лагере обращался к коллегам по заключению «сударь мой». Они полагали – потому что эстонец. Они думали, что все эстонцы говорят друг другу «сударь мой», только по‐эстонски, принимая его степенную старомодность, столь редкую в его поколении, да еще и в тех экстремальных условиях – за национальную самобытность. Русскому его в лагере обучали грузины.
На выходе из заключения он написал матери на свой родимый эстонский остров: встретил женщину (имя, фамилия), намерен жениться и прошу Вашего разрешения. Мать ответила: никак не ожидала, что ты можешь жениться на русской. Он пояснил в другом письме: она не русская, она еврейка – и получил добро.
Эстонки имели полное право не желать, чтобы их сыновья роднились с оккупантами, мы это хорошо понимали, и, хотя никто из нас лично никогда никого не оккупировал, имперская вина висела над нами тучей, не омрачая, впрочем, наших эстонских дружб и частых посещений Эстонии, куда мы направлялись, как паломники в Мекку.
Но Юло обладал врожденным чувством интернациональности и не навешивал на эллина и иудея ответственность за политику Эллады и Рима. Он как будто воспитывался не в замкнутой Эстонии сороковых годов, а на открытой ладони Монмартра начала века, в кипении многонациональной артистической богемы. Там художники сидели в кафе «Два окурка», селились в парижских мансардах, дерзили, швыряя в холсты пригоршни сияющих красок, женились на натурщицах, а всемирная слава уже расчищала в Лувре место для их картин.
Соостер в лагере копировал по заказу начальства репродукции из журнала «Огонек», кажется, Шишкина, так что вряд ли всемирная слава собиралась именно в это время проведать Соостера, заглянув в его барак.
Впрочем, он еще украдкой рисовал карандашом лица и фигуры зэков, наброски были крепки и завершенны. В лагере он был реалистом. Эстония тогда готовила студентов с первого курса в академики (по рисунку, по крайней мере), а его арестовали лишь на четвертом.
Барачное начальство рисунки отбирало, комкало и жгло. Обгоревший листок сохранился, набравшись дополнительной выразительности. Может быть, в глазах Соостера этот рисунок в благоприобретенной обугленной рамке получил новый художественный знак, знак вещи, стал артефактом. Но он кинулся в огонь. Ему выбили зубы. Он остался с металлом в улыбке навсегда.
Не отсюда ли потом, в Москве, подпаленные яблоки?
Но в Москве он уже удалялся безвозвратно от натуральной школы в направлении сдвинутых форм и постижения сути, плотно укутанной видимой оболочкой.
Из новых мест ссылки он писал философские письма об искусстве бывшим коллегам по заключению. Писал, что в западном искусстве ощутимо мужское начало, а в восточном – женское. Друзья сказали: «Все ясно. У него баба».
Но это была не «баба», это была Лида, «Лидка‐абиссинка». С профилем острым, как лезвие, угловатая, будто подбитая птица, разлученная с полетом, и все не по‐людски: не худая, но узкая, не высокая, но устремленная вверх, не красавица, но век не забудешь.
Они встретились в Долинке… Молчаливый эстонец преподнес ей подарок в газете и ушел. Развернув, она увидела на картине себя. Обнаженную. Она приняла подношение почтительного эстонца за плод алчных грез изголодавшегося зэка и впала в ярость. Швырнув картину, топтала ее до тех пор, пока ее черный разъяренный глаз не налетел на дату, педантично проставленную на обороте: оказалось, картину он писал до того, как увидел ее, Лиду. Она замерла. Судьба художника пристально разглядывала ее. Пожалуй, она испугалась.
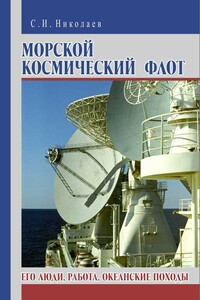
В книге автор рассказывает о непростой службе на судах Морского космического флота, океанских походах, о встречах с интересными людьми. Большой любовью рассказывает о своих родителях-тружениках села – честных и трудолюбивых людях; с грустью вспоминает о своём полуголодном военном детстве; о годах учёбы в военном училище, о начале самостоятельной жизни – службе на судах МКФ, с гордостью пронесших флаг нашей страны через моря и океаны. Автор размышляет о судьбе товарищей-сослуживцев и судьбе нашей Родины.

Книга об одном из величайших физиков XX века, лауреате Нобелевской премии, академике Льве Давидовиче Ландау написана искренне и с любовью. Автору посчастливилось в течение многих лет быть рядом с Ландау, записывать разговоры с ним, его выступления и высказывания, а также воспоминания о нем его учеников.

Валентина Михайловна Ходасевич (1894—1970) – известная советская художница. В этой книге собраны ее воспоминания о многих деятелях советской культуры – о М. Горьком, В. Маяковском и других.Взгляд прекрасного портретиста, видящего человека в его психологической и пластической цельности, тонкое понимание искусства, светлое, праздничное восприятие жизни, приведшее ее к оформлению театральных спектаклей и, наконец, великолепное владение словом – все это воплотилось в интереснейших воспоминаниях.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
