Crudo - [19]
Было жарко, было великолепно, летало несколько пьяных бабочек и стрекоза, которыми ее муж привычно восторгался. Они наговорились до умопомрачения, теперь им нужно было подзарядиться солнечными лучами и простым запахом травы и грязи. Определенно, почти что осень, косые лучи света, чудесная подгнивающая спелость. Слива, ежевика, первые опавшие листья. Непонятно откуда взявшиеся маленькие рыбки немного подросли, все, кроме одной – эта точно карп кои, с оранжевыми пятнами и надутыми губами. Много роз. Нужно ли вообще еще что-то? У них была газированная вода, им было достаточно тепло в их костюмах из кожи, два животных, две коровы, которым просто нравится стоять рядышком, в одном поле. Пусть ничего не происходит, хотя бы недолго, пускай минуты тикают в восхитительном воздухе, пускай мы лежим на шезлонгах, словно космонавты, мчась сквозь пространство и время. Кэти закрыла глаза. В кои-то веки Кэти отпустила тревога.
Дело не в тебе
Она пыталась вспомнить 1980-е, в частности 1987-й. Что люди знали, о чем они оставались в неведении? В этом проблема с историей, слишком легко нарисовать фактическую обстановку и забыть про отношение, про то, как доступная на тот момент информация делала тебя другим человеком, что тогда было в новинку, а что еще не появилось на личном или глобальном уровне. СПИД, в частности, предмет, знакомый Кэти, как и любому жившему в эпицентре эпицентра кризиса до появления комбинированной терапии, а именно в Ист-Виллидж, Нью-Йорк Сити. Она помнила венерологические клиники, коричневые пластиковые стулья, знаки на двух языках – английском и испанском, как люди умирали на улицах в ломке или покрытые фиолетовыми пятнами саркомы Капоши, как друзья пудрили щеки, как друзья худели, как друзья переходили с одной категории наркотиков на другую, похороны, акция протеста, похороны, акция протеста. Чего она не помнила, так чем именно отличались знания людей в 1987 и 1988 годах. Она пыталась восстановить в памяти отношение, понять фоновый уровень предубеждения и страха. В тот ли год умер Уорхол? А Либераче? И если б она не была тогда там, а была, скажем, английским парнем-натуралом, как бы иначе она сейчас чувствовала, осмысляла мир?
Это было невычислимо, это было из области вымысла, этот безнадежный аппарат предположений и догадок, с которым Кэти старалась соприкасаться как можно меньше. Сама она, конечно, писала художественную литературу, но она населяла ее уже существующим, заранее упакованным, реди-мейдами. Во многом она была дочь Уорхола, или, по крайней мере, племянница, расхитительница могил, разбойница, которая рада тому, что смогла ухватить, но при этом душой болеющая за идею – идею того, что не нужно ничего изобретать, можно сотворить что угодно из переполненной свалки уже готового, как говорил Беккет, ничто не ново, можно сделать стильно и незатратно, просто запустив руку в мешок с подарками действительности.
Ей нужно было еще больше одиночества, чем сейчас, это уже начинало создавать проблемы. Ей постоянно снилось, что она не в том доме, в старой квартире, не с той мебелью, не в том районе, не с тем ключом, квартиру уже сдали, недоразумение, придется жить с соседями. Она хотела крепость. Она хотела уплыть по прохладной зеленой авеню. Кажется, она перестала ходить куда-либо одна. Печальные глаза мужа расстраивали ее и вместе с тем приводили в бешенство, она терпеть не могла быть ответственной за чужое счастье. Ну не можешь ты просто понять, чего тебе надо, и добиться этого? Почему ты всё время спрашиваешь меня? Кэти могла делиться, но на своих условиях. Если отвечать на первоначальный вопрос, хорошая ли Кэти, кажется, что ответ все-таки «нет». Дело не в тебе, дело во мне, повторяла Кэти, а она изо всех сил старалась избегать этого клише. Наконец, она поняла, чем ее так притягивали отстраненные парни, люди, которые рядом с тобой только наполовину. Ей это нравилось, ей нравилось быть наедине с собой, в компании старых друзей – тоски и томления. Ей нравилось быть вечным подростком, никогда не нести ответственности за другого человека. Все ли такие плохие, как Кэти? Очнулись ли они из этого состояния, в шоке от собственного упрямства, от собственного дурного вкуса?
Тем временем лиса попала впросак. Кэти с мужем загорали, не в секретном уголке сада, а в открытой его части. Кто-то два раза крикнул «Иэн» и вломился внутрь. Кэти была в трусиках и пропотевшей желтой футболке, муж – в трусах, спущенных сверху и закатанных снизу для наибольшего загара. Соседка ни на что не обращала внимания. Она желала рассказать им про лису. В воображении Кэти лиса стала ее талисманом, ей нравилось думать, что лиса свободно бродит среди них, как анархистка, ломает их вещи, хоть и не желает вреда, и знает о вещах и явлениях за пределами восприятия Кэти. Ей нравилось вспоминать, как она появляется из-за яблони, дикая, неукрощенная. Соседка сказала, что лиса – преступница. Она ворует солому и утаскивает ее в чужие сады, она не уважает частную собственность, она мотовка, транжира, наверняка еще и должница по кредитам. Она сказала, еще чуть-чуть, и ей не поздоровится, она сказала, она уже сожрала кур у Лорны и Андреа. Кэти лежала, до предела опустив спинку лежака, она прикрыла глаза ладонью от солнца, она не знала, кто все эти люди. Муж сказал, лиса – красавица. До этого он увидел стрекозу на бельевой веревке и сказал, у нее рот в точности, как у моей бабушки. Эта какая-то другая, совсем иного цвета.

В тридцать с лишним лет переехав в Нью-Йорк по причине романтических отношений, Оливия Лэнг в итоге оказалась одна в огромном чужом городе. Этот наипостыднейший жизненный опыт завораживал ее все сильнее, и она принялась исследовать одинокий город через искусство. Разбирая случаи Эдварда Хоппера, Энди Уорхола, Клауса Номи, Генри Дарджера и Дэвида Войнаровича, прославленная эссеистка и критик изучает упражнения в искусстве одиночества, разбирает его образы и социально-психологическую природу отчуждения.

Необоримая жажда иллюзии своего могущества, обретаемая на краткие периоды вера в свою способность заполнить пустоту одиночества и повернуть время вспять, стремление забыть о преследующих тебя неудачах и череде потерь, из которых складывается существование: всё это роднит между собой два пристрастия к созданию воображаемой альтернативы жизни — искусство, в частности литературу, и алкоголизм. Британская писательница Оливия Лэнг попыталась рассмотреть эти пристрастия, эти одинаково властные над теми, кто их приобрел, и одинаково разрушительные для них зависимости друг через друга, показав на нескольких знаменитых примерах — Эрнест Хемингуэй, Фрэнсис Скотт Фицджеральд, Теннесси Уильямс, Джон Берримен, Джон Чивер, Реймонд Карвер, — как переплетаются в творчестве равно необходимые для него иллюзия рая и мучительное осознание его невозможности.
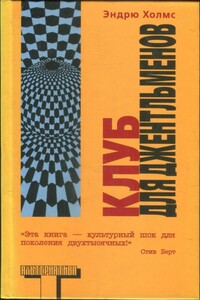
«Клуб для джентльменов». Элитный стриптиз-клуб. «Театр жизни», в котором снова и снова разыгрываются трагикомические спектакли. Немолодой неудачник, некогда бывший членом популярной попсовой группы, пытается сделать журналистскую карьеру… Белокурая «королева клуба» норовит выбиться в супермодели и таскается по весьма экстравагантным кастингам… А помешанный на современном театре психопат страдает от любви-ненависти к скучающей супруге владельца клуба… Весь мир — театр, и люди в нем — актеры. А может, весь мир — балаган, и люди в нем — марионетки? Но кто же тогда кукловод?

Леонид Переплётчик родился на Украине. Работал доцентом в одном из Новосибирских вузов. В США приехал в 1989 году. B Америке опубликовал книги "По обе стороны пролива" (On both sides of the Bering Strait) и "Река забвения" (River of Oblivion). Пишет очерки в газету "Вести" (Израиль). "Клуб имени Черчилля" — это рассказ о трагических событиях, происходивших в Архангельске во время Второй мировой войны. Опубликовано в журнале: Слово\Word 2006, 52.

В книгу вошли повести и рассказы о жизни подростков. Автор без излишней назидательности, в остроумной форме рассказывает о взаимоотношениях юношей и девушек друг с другом и со взрослыми, о необходимости воспитания ответственности перед самим собой, чувстве долга, чести, достоинства, любви. Рассказы о военном времени удачно соотносят жизнь нынешних ребят с жизнью их отцов и дедов. Издание рассчитано на массового читателя, тех, кому 14–17 лет.
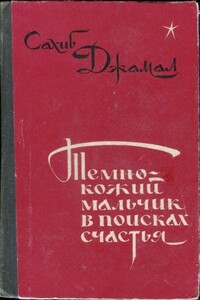
Писатель Сахиб Джамал известен советским читателям как автор романов о зарубежном Востоке: «Черные розы», «Три гвоздики», «Президент», «Он вернулся», «Когда осыпались тюльпаны», «Финики даром не даются». Почти все они посвящены героической борьбе арабских народов за освобождение от колониального гнета. Повести, входящие в этот сборник, во многом автобиографичны. В них автор рассказывает о трудном детстве своего героя, о скитаниях по Индии, Ливану, Сирии, Ирану и Турции. Попав в Москву, он навсегда остается в Советском Союзе. Повести привлекают внимание динамичностью сюжетов и пластичностью образов.

Бустрофедон — это способ письма, при котором одна строчка пишется слева направо, другая — справа налево, потом опять слева направо, и так направление всё время чередуется. Воспоминания главной героини по имени Геля о детстве. Девочка умненькая, пытливая, видит многое, что хотели бы спрятать. По молодости воспринимает все легко, главными воспитателями становятся люди, живущие рядом, в одном дворе. Воспоминания похожи на письмо бустрофедоном, строчки льются плавно, но не понятно для посторонних, или невнимательных читателей.
