Цимес - [65]
… — Ну расскажи, как дела? Как ты, как муж, как дети? Как Собакин?
— Да все как всегда, как обычно. Как-то и рассказывать особо нечего, даже Собакин все в том же кресле — ничего нового. Вот у тебя, я вижу, кое-что в самом деле изменилось. Я права?
— Конечно, господи! Прежде всего, я уже не оперирую, да и из больницы ушла. И знаешь, не жалею. Ты ведь помнишь, я когда-то мечтала о медицине — и, смею думать, кое-чего добилась.
— Конечно, помню, еще бы. Ты молодец, всегда им была. Ты сильная, Оля.
— Была бы слабая, не смогла бы — ни из больницы уйти, ни жизнь новую начать.
— И что же это за жизнь? Расскажи, хотя бы в двух словах.
— Перешла в университет, преподаю, иногда консультирую, но нечасто. Когда-нибудь стану профессором и пришлю тебе монографию с надписью: бешеной Люське от автора с любовью.
— А что, — отвечаю я, — давай, присылай. И про бешеную ведь не забыла, а!
Мы смеемся.
— А вот и Ленечка вернулся, — они снова говорят по-французски, и Оля переводит: — Ну вот, я же тебе обещала. У нас есть еще время, немного, но есть, твой трансфер подождет. Ленечке это на раз.
— Спасибо, — говорю я. — Слушай, он, конечно, ничего мужчина, импозантный, а как же… Володя, кажется, да? Из-за которого ты тогда приезжала? Я ведь так ничего и не знаю, как там у вас.
Она смотрит на меня с недоумением, с удивлением даже и после паузы произносит:
— Люся, ты о чем? Какой Володя? Я к тебе приезжала — соскучилась я по тебе, между прочим. Ну и отдохнуть немного — заодно. И что?
— Погоди, так ты что, ничего не помнишь? Ни вина, ни грозы, ни твоих веселых сарафанов? А малину, малину помнишь? Слова свои, те самые, помнишь?
— Да бог с тобой, Люсенька! Какая малина? Я ее с детства терпеть не могу, у меня на нее вообще аллергия, если хочешь знать. Слова… Да мало ли я их тебе говорила. А что говорила-то?
— «Я не сошла с ума — я просто из него вышла» — вот как ты говорила. Про свой страх, про вашу с Володей ненасытность — неужели не помнишь?
В ее глазах лед, и я понимаю, что перешла черту, что пора прощаться, и чем скорее, тем лучше. Но Оля делает это первой.
— Я думаю, мы сможем договорить в другой раз. Как-нибудь… Хорошо? Сейчас нам в самом деле пора, прости, времени уже почти совсем не осталось. Да и тебе, наверное, тоже — трансфер и все такое… Так здорово было тебя увидеть, ты не представляешь. Ну…
Мы обнимаемся снова, улыбчивые глаза ее спутника, легкий поклон, вот и все. Неужели ничего, совсем ничего не осталось? И я делаю последнюю отчаянную попытку — прямо в ее уходящую спину:
— Оля! Оля, подожди!
Она оборачивается, и мой звенящий голос:
— А Паганель? Он теперь всегда тебя узнает?
Последнее, что я успеваю увидеть, — ее искривленный гримасой, готовый заплакать рот, дрожащие губы и набухшие слезами глаза — точно как тогда. И ухожу — быстро и не оглядываясь. Завтра первый игровой день, а шахматные турниры всегда начинаются вовремя и при любой погоде.
Они не только начинаются, но и заканчиваются тоже — все и всегда. Правда, по-разному, я имею в виду — для участников. Этот и для меня оказался удачным невероятно: первое место и топ-десятка мирового рейтинга. Но больше всего грел душу приз за самую красивую партию. Я впервые применила в ней то самое продолжение ферзевого гамбита, я назвала его Паганель — про себя и чтобы никто раньше времени не догадался, что это такое вообще.
Эта партия… Каждый ход, каждый оттенок, каждая мысль были так совершенны, что хотелось остановить время. Больше всего на свете я хотела, чтобы это продолжалось вечно, если бы не заключительная — страшная и прекрасная — жертва ферзя. Противник покачал головой и остановил часы.
Зал аплодировал мне стоя.
Совсем не прийти на заключительный банкет я, разумеется, не могла, но после официальной части, поздравлений, восторгов и прочего постаралась уйти как можно быстрее и незаметнее, как раз по-английски — две с половиной недели такого напряжения даром не проходят. Ужасно хотелось домой — к семье, к Собакину, в лес…
Все так и было, как всегда, как обычно, кроме малины и ежа — октябрь. Скоро, совсем скоро уже и зима. Прошло не более четверти часа с момента моего приезда, как мой взгляд абсолютно рефлекторно остановился на шахматном столике со стоящими на нем фигурами. И столик, и фигуры были самые обычные во всем, кроме одного — это был мой первый, еще детский приз, полученный страшно сказать сколько лет тому назад.
Одной фигуры не хватало — белого ферзя.
— Дети, взрослые и собаки, кто трогал шахматы? Куда фигуру задевали? Даже ненадолго нельзя уехать, сразу вещи пропадают. А ну-ка, признавайтесь — быстро! Она дорога вашей маме как память. Ну…
Увы, мы так и не смогли ее найти. Я, конечно, не собиралась делать из этого бог знает что, но все же…
Ближе к ночи я согнала Собакина с места, чтобы перед сном поправить ему подстилку. Между подушками кресла моя рука наткнулась на что-то твердое. Это был именно он — обглоданный и изгрызанный белый ферзь, вернее то, что от него осталось. Мне отчего-то стало грустно. Вдруг вспомнилось Олино лицо там, в аэропорту, когда она оглянулась. Вот тебе и Паганель, вот тебе и жертва ферзя. Собакин тихо зарычал — ему не нравилось чувствовать себя виноватым.
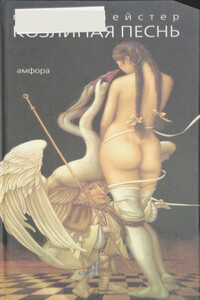
Эта странная, на грани безумия, история, рассказанная современной нидерландской писательницей Мариет Мейстер (р. 1958), есть, в сущности, не что иное, как трогательная и щемящая повесть о первой любви.

У берегов Норвегии лежит маленький безымянный остров, который едва разглядишь на карте. На всем острове только и есть, что маяк да скромный домик смотрителя. Молодой Арне Бьёрнебу по прозвищу Немой выбрал для себя такую жизнь, простую и уединенную. Иссеченный шрамами, замкнутый, он и сам похож на этот каменистый остров, не пожелавший быть частью материка. Но однажды лодка с «большой земли» привозит сюда девушку… Так начинается семейная сага длиной в два века, похожая на «Сто лет одиночества» с нордическим колоритом. Остров накладывает свой отпечаток на каждого в роду Бьёрнебу – неважно, ищут ли они свою судьбу в большом мире или им по душе нелегкий труд смотрителя маяка.
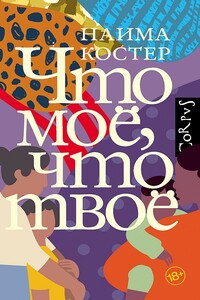
В этом романе рассказывается о жизни двух семей из Северной Каролины на протяжении более двадцати лет. Одна из героинь — мать-одиночка, другая растит троих дочерей и вынуждена ради их благополучия уйти от ненадежного, но любимого мужа к надежному, но нелюбимому. Детей мы видим сначала маленькими, потом — школьниками, которые на себе испытывают трудности, подстерегающие цветных детей в старшей школе, где основная масса учащихся — белые. Но и став взрослыми, они продолжают разбираться с травмами, полученными в детстве.

Страшная, исполненная мистики история убийцы… Но зла не бывает без добра. И даже во тьме обитает свет. Содержит нецензурную брань.

Роман, написанный поэтом. Это многоплановое повествование, сочетающее фантастический сюжет, философский поиск, лирическую стихию и языковую игру. Для всех, кто любит слово, стиль, мысль. Содержит нецензурную брань.

События книги разворачиваются в отдаленном от «большой земли» таежном поселке в середине 1960-х годов. Судьбы постоянных его обитателей и приезжих – первооткрывателей тюменской нефти, работающих по соседству, «ответработников» – переплетаются между собой и с судьбой края, природой, связь с которой особенно глубоко выявляет и лучшие, и худшие человеческие качества. Занимательный сюжет, исполненные то драматизма, то юмора ситуации описания, дающие возможность живо ощутить красоту северной природы, боль за нее, раненную небрежным, подчас жестоким отношением человека, – все это читатель найдет на страницах романа. Неоценимую помощь в издании книги оказали автору его друзья: Тамара Петровна Воробьева, Фаина Васильевна Кисличная, Наталья Васильевна Козлова, Михаил Степанович Мельник, Владимир Юрьевич Халямин.

Новый роман Елены Катишонок продолжает дилогию «Жили-были старик со старухой» и «Против часовой стрелки». В том же старом городе живут потомки Ивановых. Странным образом судьбы героев пересекаются в Старом Доме из романа «Когда уходит человек», и в настоящее властно и неизбежно вклинивается прошлое. Вторая мировая война глазами девушки-остарбайтера; жестокая борьба в науке, которую помнит чудак-литературовед; старая политическая игра, приводящая человека в сумасшедший дом… «Свет в окне» – роман о любви и горечи.

Один из главных «героев» романа — время. Оно властно меняет человеческие судьбы и названия улиц, перелистывая поколения, словно страницы книги. Время своенравно распоряжается судьбой главной героини, Ирины. Родила двоих детей, но вырастила и воспитала троих. Кристально честный человек, она едва не попадает в тюрьму… Когда после войны Ирина возвращается в родной город, он предстает таким же израненным, как ее собственная жизнь. Дети взрослеют и уже не помнят того, что знает и помнит она. Или не хотят помнить? — Но это означает, что внуки никогда не узнают о прошлом: оно ускользает, не оставляя следа в реальности, однако продолжает жить в памяти, снах и разговорах с теми, которых больше нет.

Роман «Жили-были старик со старухой», по точному слову Майи Кучерской, — повествование о судьбе семьи староверов, заброшенных в начале прошлого века в Остзейский край, там осевших, переживших у синего моря войны, разорение, потери и все-таки выживших, спасенных собственной верностью самым простым, но главным ценностям. «…Эта история захватывает с первой страницы и не отпускает до конца романа. Живые, порой комичные, порой трагические типажи, „вкусный“ говор, забавные и точные „семейные словечки“, трогательная любовь и великое русское терпение — все это сразу берет за душу.

Великое счастье безвестности – такое, как у Владимира Гуркина, – выпадает редкому творцу: это когда твое собственное имя прикрыто, словно обложкой, названием твоего главного произведения. «Любовь и голуби» знают все, они давно живут отдельно от своего автора – как народная песня. А ведь у Гуркина есть еще и «Плач в пригоршню»: «шедевр русской драматургии – никаких сомнений. Куда хочешь ставь – между Островским и Грибоедовым или Сухово-Кобылиным» (Владимир Меньшов). И вообще Гуркин – «подлинное драматургическое изумление, я давно ждала такого национального, народного театра, безжалостного к истории и милосердного к героям» (Людмила Петрушевская)