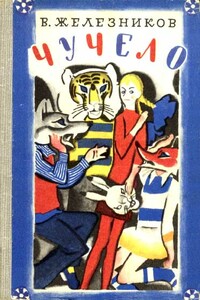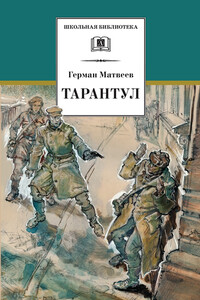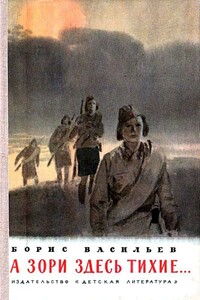— Что-нибудь еще, Борис Михайлович? — И тут она вспомнила: — А как же дело Судакова? Там же Зотиков… ваш сын?
— Мой сын? — переспросил Глебов. — Это была шутка. — Он посмотрел на удивленную Катю. — А ты поверила?
— Поверила. Я была рада за вас.
Глебов резко повернулся. Но, взявшись за дверную ручку, оглянулся: Катя провожала его глазами.
— А ты знаешь, что Зотиков и есть тот знаменитый Самурай?
— Здорово! Можно будет с ним познакомиться, — неуверенно заметила Катя. Ее лицо все еще сохраняло выражение некоторой ошеломленности.
Между тем дни мелькали, приближая время суда. Пошли дожди, и цветные дымы заводских труб то пропадали во мгле, то сияли своими красками под ярким солнцем.
Глебов вел дело к закрытию, «ввиду отсутствия виновного». А Костя настолько успокоился, что зажил прежней беззаботной жизнью. Только Лиза ходила испуганная и подавленная. Глядя на Костю, она думала: «Мотылек летает, а крылышки ведь ему могут опалить». И эта фраза вспыхивала в ней десятки раз в течение дня и ночи, приобретая самые фантастические и нелепые формы. То ей снилось, что Костя летит в пропасть, на верную гибель, то наяву — днем — она видела, как у Кости вырастают тонкие прозрачные крылья, и их ему поджигают, и он горит и корчится от боли.
18
Суд был назначен на час дня. А девчонки уже с утра завалились к Зойке. Осторожно и молча прошмыгнули мимо двери Зотиковых и коротко позвонили. Зойка не удивилась, что они пришли, провела их в комнату, плотно прикрыла двери, посмотрела на Ромашку и почему-то шепотом спросила:
— Что ты так выпендрилась? Нашла время.
Та была в короткой юбке, когда она наклонялась, видны были трусики.
— А что? — нагло ответила Ромашка. — Суд — это театр.
— Замолчи ты! — гневно крикнула Зойка. — На суд мы не идем. Костя запретил. Нечего нам там отсвечивать.
— Жалко… — вздохнула Ромашка. — Люблю пройтись по острию ножа. Нервы пощекотать.
— Ну и порядок! — обрадовалась Каланча. — Рванем в кино, чтобы время быстрее прошло.
— Не высовывайся ты с этим кино! — грубо сказала Глазастая. — Заткнись и слушай!
— А я пойду, — быстро проговорила Зойка. — А вы меня ждите около суда. А вообще-то, девчонки, дело плохо… Вчера началось с утра. Зовет меня Лизок. Вхожу, смотрю: она какая-то очумелая. Глаза страшные. Говорит: «У меня к тебе просьба…» Качается как пьяная. Думаю, может, правда надралась? Принюхалась — нет, алкоголем не пахнет.
— От чего другого опьянела? — хихикает Ромашка.
— Может, все же помолчишь, трепло? — обрывает ее Глазастая. — Продолжай, Зойка.
— Ну, она меня позвала, а ничего не говорит. Я тогда спрашиваю: «Теть Лиз, ты что-то хотела сказать?» — ну, мягко так намекаю.
А она говорит: «Тебе?» — и снова ничего.
Тогда задаю вопрос: «Ну, отдали деньги Судакову?»
«Отдала», — отвечает.
«И он взял?»
«Взял, — говорит. — Сначала не хотел, тоже нервничает, боится, но деньги взял. Потом сказал: „Если присудят платить, заплачу, а нет — верну“».
«А сколько?»
«Много. На новую машину».
«А где же ты их достала?» — спрашиваю.
«Где надо, там и достала, — мрачно так отвечает. — Теперь мне надо встретиться с Куприяновым до суда, иначе он посадит Костю».
«Зачем?» — спрашиваю.
Она криво улыбается: «Надо сделать то, что он хочет».
«А что он хочет?» — не понимаю.
Она потрепала меня по щеке, как маленькую: «Любви он хочет».
— А что я говорила, что я говорила?! — закричала Ромашка. — Я умная, у меня голова!
— Ну а ты что ей на это сказала? — спросила Глазастая.
— Притихла, испугалась.
А Лиза говорит: «Лягу с ним в постель, и тогда будет порядок».
Мне ее жалко стало. Прошу: «Не надо, теть Лиз».
«Не лягу — донесет, стукач проклятый. Он сегодня ко мне вечером придет».
Полезла в сумку, покопалась, достала два билета в кино, протянула: «Вот, пригласи Костю… Не пугайся, он пойдет. Я его уговорю: это его любимый… фильм американский, „Серенада Солнечной долины“».
Я посмотрела на нее, а она отвернулась и говорит: «Мне теперь все одно: что в петлю, что в постель».
Взяла я эти билеты, девчонки, и почувствовала — сама умираю. Что-то, думаю, надо делать. Надо утихомирить этого рыженького. А ведь если он на суде все скажет, то и Глебов не спасет Костю. Ну и решила я пойти к жене Куприянова и все ей рассказать.
— Ты бортонутая, — сказала Ромашка. — Тебя надо вязать.
— Узнала адрес. Прихожу. Сердце колотится, ноги дрожат, убежать хочу, но Лизу жалко. Стою. Открывает мне двери девчонка. Я ее узнала, она из шестого. Такая рыженькая, на вид смышленая. Спрашиваю: «Мама дома?»
«Дома», — отвечает.
Появляется женщина. Ну, такой бочоночек, быстрая, ловкая.
«Проходи, — говорит, — садись».
«А муж ваш скоро придет?» — спрашиваю.
«Придет часа через два. А в чем дело?» — отвечает нервно.
Думаю: «Время есть». — И выкладываю ей все подчистую.
Что с нею стало! Сначала она покраснела, потом побелела, а потом как завопит: «Машка!»
«А ей-то зачем про это? — говорю. — Она же еще малолетка».
А тут Машка влетела.
А она ей: «Ты что подслушиваешь, дрянь! А ну вон на улицу!»
Потом мы план разоблачения рыженького составили, но она этот план не выполнила, а подстерегла Куприянова в нашем подъезде и расцарапала ему всю морду…
Тут Зойка что-то услышала, напряглась, оборвала рассказ на полуслове и тихо сказала: