Что вдруг - [5]
Но в промежутке между литературным генералитетом (а «слепой отпор “истории генералов”» отмечал в свою эпоху еще Тынянов, и по законам некой литературной цикличности производство энергии такого отпора возродилось в 1960-х) и полным небытием – во все эпохи существовали реальные случаи минимального присутствия русских авторов в литературном процессе своего времени, как в случае Александра Подановского, кончившего жизнь инженером в Уругвае, напечатавшего за всю жизнь, возможно, одно только стихотворение, но зато где? В легендарном журнале «Гиперборей», где М.Л.Лозинским, Н.С.Гумилевым и С.М.Городецким был водружен высокий барьер для начинающих авторов>4. В предлагаемой книге можно прочесть о члене первого Цеха поэтов (куда вряд ли принимали пишущих ниже известного уровня) Константине Вогаке – он, видимо, тоже напечатал только одно стихотворение.
Для того чтобы испытать и промерить границы литературного процесса начала века, надо было рекрутировать всех запасных, расширяя контингент до крайних пределов. В качестве некоторой компенсации за такое расширение литературной вселенной иные персонажи сократились, обнаружив в разных писателях – одного автора, как парижский поэт (и автор интереснейшей статьи 1913 года о симультанизме, истоки которого он нашел в «Евгении Онегине») Р. Бравский оказался нью-йоркским поэтом Александром Браиловским, и еще описателем акатуйской каторги, и еще тем мальчиком, которому Валерий Брюсов посвятил стихотворение «Юноша бледный со взором горящим»>5. Со страниц своей последней книги он спрашивает нас:
Писателей, почти не предававших свои сочинения тиснению, разыскивать полагается в домашней переписке той эпохи, в альбомах, дневниках, в папках с надписью «произведения неустановленных лиц». К 1970-м работать в советских архивах с фондами начала XX века стало ощутимо затруднительнее. Издательства все менее охотно давали туда отношения, хранители находили все новые отговорки и предлоги для отказов. В советскую печать я со своими темами и не совался, экономил рабочее время, после того как столкнулся в столичных журналах и альманахах со всем набором вежливых и невежливых отказов. Редактор журнала «Литературное обозрение» не стал печатать набранный материал про раннюю Ахматову. «Опять про культ личности», – сказал он, не читая. Редактор «Альманаха библиофила» сказал, что очерк мой слишком хорош для его издания. Только Мариетта Чудакова, не жалея собственного времени, отчаянно пробивала мои сочинения, и в каких-то случаях это увенчивалось успехом, да покойный Саша Чудаков тоже все время старался пристроить меня к печатанию, да покойная Таня Бек взялась провести в «Вопросах литературы» статью об И. Анненском, правда, так, чтобы ее не было в оглавлении. Тартуские «Ученые записки» были исключением. Там можно было даже напечатать статью о гумилевском «Заблудившемся трамвае», правда, не тиснув ни разу запретных семи букв, а именуя автора «Заблудившегося трамвая» автором «Заблудившегося трамвая». Так что в основном я печатался в зарубежных славистических изданиях, в том числе в незабвенной серии «Slavica Hierosolymitana». Я приносил ходатайства из самых малопрестижных заведений, на меня косились. Можно было подделать, «учинить», на юридическом языке, отношение, но это было дело уголовное, чем и воспользовались чекисты в случае с одним нашим коллегой, отправив его на четыре года в лагерь.
В конце беспросветных 1970-х мне в этом отношении повезло. Илья Самойлович Зильберштейн получил после долгих проволочек разрешение с самых верхов выпустить к столетию Блока соответствующий том «Литературного наследства», но до юбилея оставалось мало времени, платных советских литературоведов калачом было не заманить на выполнение за копейки черновой архивной работы вместо того, чтобы за приличные гонорары писать левыми ногами привычную бессодержательную лабуду, и Зильберштейн дал знак набрать команду добровольцев из безработных и сомнительных личностей (я работал, в числе других, вместе с покойной Ирой Якир) и попросил у цгалийского начальства (приходившегося ему супругой) о зеленой улице для занимающихся темой «Блок в переписке и дневниках современников», о выдаче этим шалопаям любых материалов. Так я попал в мир теней авторского вспомсостава серебряного века.
Я приезжал в Москву, Зильберштейн приглашал иногда заглянуть к нему за инструкциями в 7 часов утра, но потом передумывал потакать сибаритству, звонил наутро в 5.30 и говорил, что так он и знал, что я еще сплю вместо того, чтобы готовить к печати новые материалы об Александре Александровиче Блоке, который столь безвременно ушел из жизни, а мог бы еще жить и жить и радовать нас своими новыми замечательными произведениями. Буквально.
Из затеи гениального советского менеджера вышел не том, а пять томов, ставших помимо прочего огромным депозитарием сведений о младших чинах серебряного века.
Исполнению этой почетной, на мой взгляд, обязанности историка литературы – спасти рядового имярека – я и стараюсь учить своих студентов и аспирантов, настаивая на, как пишет Михаил Ямпольский в «Энциклопедии отечественного кино», «понимании иерархии значимости архивных материалов, интересе к маргинальным явлениям и остром неприятии тривиальностей».
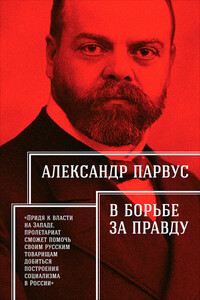
Работа «В борьбе за правду» написана и опубликована в Берлине в 1918 году, как ответ на предъявленные Парвусу обвинения в политических провокациях ради личного обогащения, на запрет возвращения в Россию и на публичную отповедь Ленина, что «революцию нельзя делать грязными руками».

От издателя Очевидным достоинством этой книги является высокая степень достоверности анализа ряда важнейших событий двух войн - Первой мировой и Великой Отечественной, основанного на данных историко-архивных документов. На примере 227-го пехотного Епифанского полка (1914-1917 гг.) приводятся подлинные документы о порядке прохождения службы в царской армии, дисциплинарной практике, оформлении очередных званий, наград, ранений и пр. Учитывая, что история Великой Отечественной войны, к сожаления, до сих пор в значительной степени малодостоверна, автор, отбросив идеологические подгонки, искажения и мифы партаппарата советского периода, сумел объективно, на основе архивных документов, проанализировать такие заметные события Великой Отечественной войны, как: Нарофоминский прорыв немцев, гибель командарма-33 М.Г.Ефремова, Ржевско-Вяземские операции (в том числе "Марс"), Курская битва и Прохоровское сражение, ошибки при штурме Зееловских высот и проведении всей Берлинской операции, причины неоправданно огромных безвозвратных потерь армии.

Опубликовано в журнале «Арт-город» (СПб.), №№ 21, 22, в интернете по адресу: http://scepsis.ru/library/id_117.html; с незначительными сокращениями под названием «Тащить и не пущать. Кремль наконец выработал молодежную политику» в журнале «Свободная мысль-XXI», 2001, № 11; последняя глава под названием «Погром молодых леваков» опубликована в газете «Континент», 2002, № 6; глава «Кремлевский “Гербалайф”» под названием «Толпа идущих… вместе. Эксперимент по созданию армии роботов» перепечатана в газете «Независимое обозрение», 2002, № 24, глава «Бюрократы» под названием «“Чего изволите…” Молодые карьеристы не ведают ни стыда ни совести» перепечатана в газете «Санкт-Петербургские ведомости», 29.01.2002.

Полный авторский текст. С редакционными сокращениями опубликовано в интернете, в «Русском журнале»: http://www.russ.ru/pole/Pusechki-i-leven-kie-lyubov-zla.
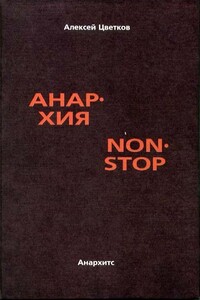
Анархизм, шантаж, шум, терроризм, революция - вся действительно актуальная тематика прямого политического действия разобрана в книге Алексея Цветкова вполне складно. Нет, правда, выборов и референдумов. Но этих привидений не встретишь на пути партизана. Зато другие духи - Бакунин, Махно, Маркузе, Прудон, Штирнер - выписаны вполне рельефно. Политология Цветкова - практическая. Набор его идей нельзя судить со стороны. Ими можно вооружиться - или же им противостоять.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.