Что вдруг - [3]
Михаил Самойлович Юзефович, юрист, библиофил, переписывавший целые номера «Современных записок» и «Чисел» нездешней и нетеперешней красоты мельчайшим почерком в ученические тетрадки в линейку для второго класса, полтавский уроженец, друг семейства Короленко, показывал, как агитировал его, вольноопределяющегося в толпе фронтовиков весной 1917 года, за продолжение войны эмиссар Временного правительства Виктор Шкловский. «Лысый, как коленка», – сказал Юзефович. Виктора Борисовича я видел на вечере в 70-летие Маяковского. Он, как всегда, говорил мало о многом. В придаточном предложении по стороннему поводу он сообщил о новости, которая еще не покатилась по Москве: «…и сегодня, когда ушел Асеев», и во весь остаток его речи публика перешептывалась, дискутируя, как надо понимать сказанное, в общечеловеческом ли грустном смысле, или в каком-то индивидуальном шкловском смысле, и тогда все еще не так плохо. В начале 1970-х я недолго разговаривал со своим кумиром первого университетского года. Он отдыхал в Доме писателей в Дубулты, я жил на даче неподалеку, навещал в Доме Леонида Зорина, которого любили в театре, где я служил, да и он хорошо относился к рижскому ТЮЗу, хотя ставили его там явно недостаточно. Он и познакомил меня (неожиданно для меня, уже имевшего к тому времени некоторый опыт разочарования в обольщеньях отроческих дней) со Шкловским. Я стал называть имена всеми тогда забытых поэтов, про которых только активный участник околоавангардистской литературной жизни с 1913 года мог что-то знать. Я спросил про Владимира Силлова, лефовца, расстрелянного в 1930 году. Кажется, это было моей главной оплошностью. (Мне об этом эпизоде до того рассказывала Рита Яковлевна Райт-Ковалева, посоветовавшая, как я теперь понимаю, не без подвоха: «А вы при случае спросите у Виктора Борисовича»; заодно рассказала еще всякие истории об удальстве молодого Шкловского.). «Он был троцкист, – пробурчал Шкловский, – и передавал Троцкому сведения». Я осторожно (поскольку вблизи нетерпеливо прогуливалась тогдашняя жена Шкловского, вдова Нарбута) спросил про Владимира Нарбута. Тут Шкловский огрел меня раблезианским рассказом о молодечестве Нарбута, превосходившим то, что рассказывала о самом Шкловском Рита Яковлевна. Тогда я задал роковой вопрос об исчезнувшем полвека тому назад с лица русской литературы мелком (я бы и сейчас не дерзнул поднимать его до третьестепенного) имитаторе футуризма, «директоре» и «синтетте» группы «Чэмпионат поэтов» (э оборотное) Пучкове, он же Анатоль Серебряный. Недолгая пауза, и родоначальник новой русской филологии начал эпически: «У Толстого есть один рассказ, которого никто не читал…». Видимо, стилизуясь под двойника Шкловского, каверинского Некрылова, чтоб выдать себя за человека одной с ним крови, я вякнул что-то вроде того, что если бы никто и не читал этот рассказ Толстого, то все, знающие наизусть книги Шкловского, не раз о нем слышали. Он не обратил на мою репризу никакого внимания и продолжал монолог. Действие монолога разворачивалось на всех меридианах и параллелях искусства и жизни, и нить проповеди я стал безнадежно терять, но голос звучал все беспокойней, Серафима Густавовна переминалась все нетерпеливей, и вот, раскачав себя, Виктор Борисович Шкловский вскочил, вернулся к вопросу десятиминутной давности, поднял фальконетообразно руку и очень-очень-очень громко произнес: «Уходите!!! Вы пришли меня спрашивать о третьестепенных писателях! Не из этого состоит история литературы!» Застыл, потом, сменив позу, сказал очень спокойно: «А будете в Москве, – заходите!»
Спустя двадцать лет выяснилось, что, когда я выспрашивал у Шкловского про Пучкова, сам неведомый поэт был еще жив в Подмосковье, и можно было анкетировать его самого. Теперь как торжество еще венгеровского, еще доопоязовского подхода к истории литературы (а может, наоборот, младоформалистского?) увлекательнейшая пространная статья об Анатолии Ивановиче в тяжеленном волюме словаря «Русские писатели. 1800–1917» на две страницы отстоит от солнца русской поэзии.
Подвергаясь не только методологической анафеме, но и добродушным смешкам друзей, я хранил верность «малым сим», мелким букашкам и черным мурашкам русской литературы, тому муравьиному шоссе, которое представляет из себя литературный процесс. В чем, как я полагаю, следовал за духом времени, присягая одной из тенденций т. н. «шестидесятых годов».
Это было время пересмотра созданных официозом репутаций. Помню, как будущий правозащитник Сергей Григорьянц, тогда ходивший в мундире Рижского института Гражданского воздушного флота, сказал мне, только окончившему школу в 1962 году: «А вы читали Замятина? Это писатель получше Горького будет». Я прочел и согласился. Но в следующий раз Сережа мне сказал: «А Николая Никандрова? Не хуже Замятина». Тут я медлил соглашаться. Рассчитывая, что уж тут греха таить, на моментальный эффект, он как-то сказал мне, повторяю, вчерашнему десятикласснику, про свою замечательную библиотеку: «Да, много хорошего есть, но вот Добролюбова не хватает». На мое запрограммированное недоумение отмахнулся ласково-презрительно: «Не того, Александра». (Спустя много лет мне пришлось оказаться в той же ситуации историко-литературного квипрокво с другой, так сказать, стороны прилавка. Я толковал Иосифу Бродскому, что, по-моему, обещание проходить всю жизнь «в железной рубахе» у Мандельштама отсылает к биографии поэта-веригоносца, как и многое другое в этом стихотворении «Сохрани мою речь…» навеяно загадочным ореолом «воинственного молодого монаха раннего символизма», и вдруг по брезгливому движению губ понял, что собеседник запамятовал о наличии в отечественной поэзии однофамильца ревдемократа. Я почувствовал, что густо краснею.).

«Бедная русская интеллигенция! Каждый раз, когда обостряются наши отечественные неблагополучия и мы не знаем, как выйти из затруднений, в которые поставила нас история, – мы неизменно находим одного и того же виновника всех бед, своего рода «стрелочника» на тяжком пути нашего прогресса – бедную русскую интеллигенцию. В лучшем случае, когда ее не сажают на скамью подсудимых и ей не грозит полное осуждение, предъявляется иск к ее «духовным ценностям», и тяжба кончается той или иной более или менее существенной урезкой этих последних.
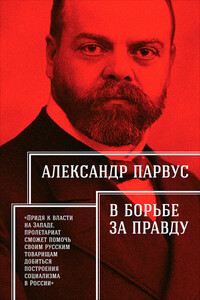
Работа «В борьбе за правду» написана и опубликована в Берлине в 1918 году, как ответ на предъявленные Парвусу обвинения в политических провокациях ради личного обогащения, на запрет возвращения в Россию и на публичную отповедь Ленина, что «революцию нельзя делать грязными руками».

От издателя Очевидным достоинством этой книги является высокая степень достоверности анализа ряда важнейших событий двух войн - Первой мировой и Великой Отечественной, основанного на данных историко-архивных документов. На примере 227-го пехотного Епифанского полка (1914-1917 гг.) приводятся подлинные документы о порядке прохождения службы в царской армии, дисциплинарной практике, оформлении очередных званий, наград, ранений и пр. Учитывая, что история Великой Отечественной войны, к сожаления, до сих пор в значительной степени малодостоверна, автор, отбросив идеологические подгонки, искажения и мифы партаппарата советского периода, сумел объективно, на основе архивных документов, проанализировать такие заметные события Великой Отечественной войны, как: Нарофоминский прорыв немцев, гибель командарма-33 М.Г.Ефремова, Ржевско-Вяземские операции (в том числе "Марс"), Курская битва и Прохоровское сражение, ошибки при штурме Зееловских высот и проведении всей Берлинской операции, причины неоправданно огромных безвозвратных потерь армии.

Опубликовано в журнале «Арт-город» (СПб.), №№ 21, 22, в интернете по адресу: http://scepsis.ru/library/id_117.html; с незначительными сокращениями под названием «Тащить и не пущать. Кремль наконец выработал молодежную политику» в журнале «Свободная мысль-XXI», 2001, № 11; последняя глава под названием «Погром молодых леваков» опубликована в газете «Континент», 2002, № 6; глава «Кремлевский “Гербалайф”» под названием «Толпа идущих… вместе. Эксперимент по созданию армии роботов» перепечатана в газете «Независимое обозрение», 2002, № 24, глава «Бюрократы» под названием «“Чего изволите…” Молодые карьеристы не ведают ни стыда ни совести» перепечатана в газете «Санкт-Петербургские ведомости», 29.01.2002.

Полный авторский текст. С редакционными сокращениями опубликовано в интернете, в «Русском журнале»: http://www.russ.ru/pole/Pusechki-i-leven-kie-lyubov-zla.
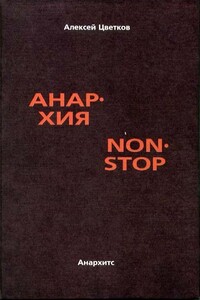
Анархизм, шантаж, шум, терроризм, революция - вся действительно актуальная тематика прямого политического действия разобрана в книге Алексея Цветкова вполне складно. Нет, правда, выборов и референдумов. Но этих привидений не встретишь на пути партизана. Зато другие духи - Бакунин, Махно, Маркузе, Прудон, Штирнер - выписаны вполне рельефно. Политология Цветкова - практическая. Набор его идей нельзя судить со стороны. Ими можно вооружиться - или же им противостоять.