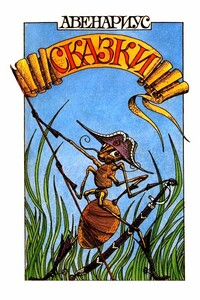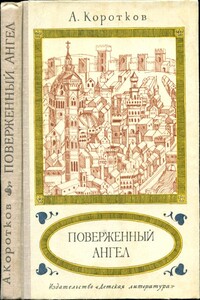Справа, слева, сверху, снизу — отовсюду вдруг зашелестело, точно в лесу тысячи листьев разом зашевелились, и на Ваню как бы ветром пахнуло. Вот тебе на! Это ведь обои на стенах проснулись, заколыхались, заговорили.
— Всякий из вас пожил, господа, правда, — шелестели обои. — Но все же, сколько бы вас тут ни было — будь вы из дерева или из железа, из глины или из стекла, — все вы живете вашу первую жизнь и второй жизни вам нет и не видать.
— А вы-то что же, вторую жизнь живете? — прозвенел графин.
— А то как же? — отвечали обои. — Наша первая жизнь была тряпичная, наша вторая — бумажная. Сколько лет нас люди платьями, бельем носили, пока мы на них в лохмотья, в отрепья не изорвались! Тут бы, кажется, нам и конец? Ан нет! Тут выручили нас наши новые крестные — тряпичники: «Буты-лок, банок! Костей, тря-пок!» Сгребали тряпье и из домов, и из сорных ям, а понабравши целый воз — марш на бумажную фабрику.
— Славная компания! — сказал брезгливо графин. — Да на один воз вашей грязной братии двух возов мыла недостало бы!
— Да-с, вашим комнатным мыльцем с сальным тряпьем немного поделаешь, — сказали обои. — Нас, сударь мой, в трех кипятках да в трех щелоках проварили, нас трепалкой в мелкую кашу истрепали, изодрали, — хоть «караул!» кричи. Зато же уж и насквозь пробрало. А рядом, в другом чане, тут же, свежей водой окатили, — так всю грязь как рукой сняло! Стала каша чистая, аппетитная — хоть сейчас кушай! Только чистоте нашей люди и тут не поверили: чтобы от прежней дряни в нас и духу не осталось, хорошенько еще нас продушили.
— Одеколоном, верно? — сказал графин.
— Как бы не так! , сударь мой. Пахнет она, правда, вовсе не духами — расчихаешься, раскашляешься; зато очистит, убелит как снег.
— А дальше что же было?
— Дальше — пустяки, прогулка одна. Поумывшись, убелившись, вытекли мы кашицею из крана на проволочную сетку. А сетка на колесах, идет себе вперед да вперед, да трясется еще при этом с боку на бок. Вода-то из кашицы и сбегает сквозь сетку, а там остается одна густая . Навстречу тут два валика. Проходит масса меж валиков и выходит из-под них уже не массою — настоящею плотною бумагой. Только сыровата еще она. И идет она все дальше, идет по мягкому войлоку. Опять навстречу ей два валика, не холодных уже, а нагретых. Продирается она опять меж них и вылезает оттуда уже совсем сухою. Скоро сказка сказывается, да скорее дело делается: только что жидкою кашицею были, глядь — и бумагою стали.
— Да ведь вы, обои, не простая же бумага, — сказал графин, — а все в узорах? Грунт — серый, а по нему все цветочки да цветочки, листики да листики.
— А это уже нас на обойной фабрике разрисовали, — отвечали обои. — Сперва навели кистью серую краску для грунта, потом взяли деревянную форму с вырезанными цветочками, обмакнули в малиновую краску, подавили на бумагу — вышли цветочки; взяли другую форму с вырезанными листочками, обмакнули в зеленую краску, опять надавили — вышли листики. Узор хоть и простенький, а миленький. Не правда ли? Никому тут на глаза не лезем, а в комнате от нас все же веселее и уютнее. Пользу приносим, а сами ни гу-гу.
— Полчаса слышим, как-вы ни гу-гу, — раздался тут с нижней полки насмешливый голос, и Ваня сейчас догадался, что это говорит его любимая книжка, в которой такие хорошенькие истории — смешные до слез и грустные до слез. — Мы, книжки, тут все тоже из бумаги, тоже с узорами, но с какими!
— Хорошие узоры! — сказали обои, — черные только крючки какие-то, буквы, что ли…
— А из букв-то этих что составляется? Слова! А из слов? Целые рассказы. Послушать — уши развесишь. И мы тоже живем другую жизнь. Но первая жизнь наша, тряпичная, была только для тела: одевали, грели, а теперешняя, бумажная, для души: и ум расшевелим, и сердце развеселим.
— Да где же и кто вас так распечатал?
— Где? В , в . А кто? . Набрали оловянных выпуклых букв — в слова, смазали сверху краской и отпечатали на бумагу.
— А кто же рассказы-то выдумал? Они же, наборщики?
— Нет, это не их ума дело: на то есть свои люди — . Писатель все видит и все слышит, да потом пером и опишет. И вас всех, господа, сколько вас тут ни есть, опишет; а наборщики наберут вас в слова и отпечатают в книжку; смотрите же, глупостей не говорить.
— Вот еще! И глупостей даже не говорить! — закричали голоса со всех сторон. — Точно мы ничего уже не значим! Точно горя и бед всяких не натерпелись! За что же это, за что?..
И кругом поднялся такой гвалт, такой гам, что хоть уши заткни.