Читая «Лолиту» в Тегеране - [134]
Когда мы приняли окончательное решение, все перестали об этом говорить. Взгляд отца стал рассеянным, точно, разговаривая со мной, он смотрел вдаль, где наши фигуры уже скрылись за горизонтом. Мать вдруг стала злиться и обижаться, намекать, что мое решение подтвердило ее худшие подозрения о том, что я неспособна на преданность. Моя лучшая подруга потащила меня покупать подарки и радостно болтала о чем угодно, кроме моего отъезда, а для студенток как будто ничего не изменилось. Только мои дети говорили о скором отъезде со смесью волнения и грусти.
19
В персидском языке есть выражение «терпеливый камень»; мы часто вспоминаем его во времена тревог и нестабильности. Представьте, что изливаете все свои тревоги и горести камню. Камень слушает, впитывает тайны и боль, а вам становится легче. Но бывает, камень больше не может терпеть этот натиск и трескается. Мой волшебник не был моим «терпеливым камнем», и я для него таким камнем не была – он никогда не рассказывал мне свою историю, мол, кому это интересно. Но все же он провел немало бессонных ночей, слушая и впитывая чужие тревоги и печали, и мне советовал уехать: уехать, написать книгу, продолжить преподавать.
Возможно, он явственнее, чем я сама, понимал, что со мной происходило. Теперь я понимаю, что, как ни парадоксально, чем сильнее я привязывалась к своим занятиям и своим студенткам, тем больше отдалялась от Ирана. Чем больше я замечала печальную лиричность наших жизней, тем сильнее моя собственная жизнь становилась похожа на вымысел. Теперь я могу выразить это словами и говорить обо всем с определенной долей ясности, но тогда это было не так ясно. Тогда все казалось сложнее.
Вспоминая дорогу до его квартиры и все изгибы и повороты, встречавшиеся мне на пути, я снова прохожу мимо старого дерева напротив его дома, и меня поражает внезапное осознание: бывает, воспоминания начинают жить своей жизнью, никак не связанной с реальностью, которая их породила. В воспоминаниях мы начинаем мягче относиться к тем, кто когда-то нас сильно обидел, а можем начать ненавидеть тех, кто некогда любил нас и всецело принимал.
Мы снова сидим с Резой за круглым обеденным столом под картиной с зелеными деревьями; мы разговариваем и обедаем бутербродами с сыром и запрещенной ветчиной. Волшебник не пьет алкоголь: не хочет довольствоваться подделками, поэтому ни пиратские видео не смотрит, ни домашнее вино не пьет; книг и фильмов, подвергнувшихся цензуре, для него не существует. Он не смотрит телевизор и не ходит в кино. Он считает неприемлемым смотреть любимые фильмы на видео, хотя для нас достает кассеты со своими любимыми кинокартинами. Сегодня он принес нам домашнего вина греховного бледно-розового цвета; оно разлито по пяти бутылкам из-под уксуса. Я забираю его домой и пью. Что-то пошло не так в процессе брожения, и вино на вкус как уксус, но я не говорю об этом волшебнику.
В тот день мы обсуждали Мохаммада Хатами и его кандидатуру в президенты. До этого интеллектуалы знали Хатами как министра исламской культуры и ориентации – он занимал этот пост совсем недолго, – но в последние несколько недель его имя было у всех на устах. О Хатами говорили в автобусах и такси, на вечеринках и на работе; мы считали, что голосовать за него – наш моральный долг. Семнадцать лет религиозные деятели твердили, что голосовать – не просто долг каждого гражданина, а долг каждого мусульманина; теперь мы с ними соглашались. Люди из-за Хатами ссорились и разрывали отношения с друзьями.
В тот день я шла к своему волшебнику, мучаясь с платком – тот все время развязывался; на стене висел плакат с изображением Хатами – его лицо крупным планом и огромные буквы: «Иран снова влюблен». О нет, в отчаянии произнесла я про себя; только не это.
Мы сидели за столом в квартире волшебника – сколько историй, реальных и придуманных, слышали эти стены! – и я рассказывала про плакаты. Можно любить свою семью, любовников, друзей, но почему мы должны влюбляться в политиков? Даже на занятиях с девочками мы ссорились из-за Хатами. Манна не понимала, как можно за него голосовать; мол, ей все равно, можно ли будет носить платок чуть более светлого оттенка или повязывать его так, чтобы волосы были видны. Саназ сказала, что выбирая между двух зол, мы выбираем меньшее, а Манна ответила, что ей нужны не вежливые тюремщики, а освобождение из тюрьмы. Азин заявила: Хатами выступает за «главенство закона». Того самого закона, который позволяет мужу меня бить и позволит ему отнять у меня дочь? Ясси была растеряна, а Митра сказала: ходят слухи, что на выборах будут проверять паспорта и тем, кто не проголосовал, не разрешат потом уехать из страны. А еще ходят слухи, что не надо верить слухам, саркастически ответила Махшид.
– Люди обычно получают по заслугам, – сказал Реза и откусил от бутерброда с сыром и ветчиной. Я укоризненно взглянула на него. – Я серьезно, – сказал он. – Если мы даем себя одурачить так называемыми «выборами» – мы же знаем, что это ненастоящие выборы, раз на них допускают только мусульман с идеальным послужным списком, и отбирает кандидатов Совет стражей конституции, а одобряет верховный лидер? Так вот, до тех пор, пока мы миримся с этим цирком под названием «выборы» и надеемся, что Рафсанджани или Хатами нас спасет, разочарование, что настигает нас после, вполне заслуженное.
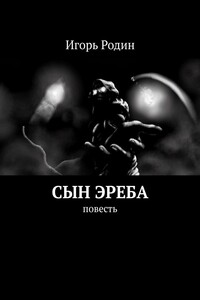
Эта история — серия эпизодов из будничной жизни одного непростого шофёра такси. Он соглашается на любой заказ, берёт совершенно символическую плату и не чурается никого из тех, кто садится к нему в машину. Взамен он только слушает их истории, которые, независимо от содержания и собеседника, ему всегда интересны. Зато выбор финала поездки всегда остаётся за самим шофёром. И не удивительно, ведь он не просто безымянный водитель. Он — сын Эреба.

Рассказы повествуют о жизни рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции. Герои болгарского писателя восстают против всяческой лжи и несправедливости, ратуют за нравственную чистоту и прочность устоев социалистического общества.

Школьники отправляются на летнюю отработку, так это называлось в конце 70-х, начале 80-х, о ужас, уже прошлого века. Но вместо картошки, прополки и прочих сельских радостей попадают на розовые плантации, сбор цветков, которые станут розовым маслом. В этом антураже и происходит, такое, для каждого поколения неизбежное — первый поцелуй, танцы, влюбленности. Такое, казалось бы, одинаковое для всех, но все же всякий раз и для каждого в чем-то уникальное.