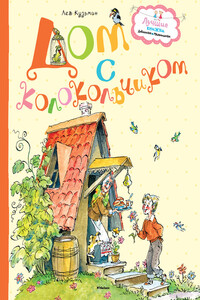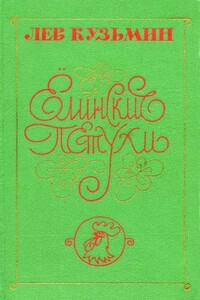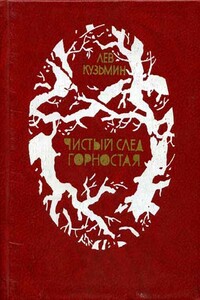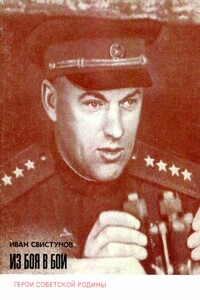— Не буду, — сказал я, а сам переступаю с ноги на ногу. Ведь Буслай-то в кустах, наверное, уже ругательски меня ругает; наверное, думает, что я сдрейфил и сижу дома.
А печник словно нарочно не торопится. Он медленно подходит к тому же старинному шкафу, вытаскивает и переносит на стол к лампе выдвижной ящик. Он аккуратно, по очереди вынимает и раскладывает на крышке стола яркие, будто позолоченные гильзы, коробки с мягкими пыжами, склянки с пистонами и покачивает головой, с усмешкой наговаривает:
— Надо же, что придумали? Порох — запорожское лекарство. Нашли старого дурака! Нет, уж если на охоту собрались, так прямо бы и сказали: дай, мол, дядя Коля, пороху. Я сам охотник. Я это дело понимаю. На баловство не дам, а для охоты дам! У вас, поди, и дроби-то нет? Поди, какой-нибудь дрянью заряжать станете?
— Угу… Дрянью! — поспешно соглашаюсь я. — Железками всякими.
— Железками нельзя. Железками ружье испортите. Я лучше знаешь что? Я лучше вам два патрона сам заряжу, — совсем раздобрился дед Николаи, а Евстолия развязывает платок, сердито вторит ему:
— Вот, вот… Заряжай! Потакай им! А они в самом деле чего натворят. Смотреть нынче за ними некому. Вот уже и врать научились.
Она замахивается на меня платком:
— У, бессовестный! — Но не шлепает, а берет за руку, подтаскивает к столу: — Садись, враль несчастный, ешь! Небось мать-то на работе.
И сидеть бы мне за столом как миленькому, да печник зарядил наконец патроны, туго забил их войлочными пыжами и протянул мне:
— На! Да не промажьте и пустые гильзы верните.
Я стиснул в кулаке тяжеленькие патроны, крикнул: «Не промажем!» — выкрутнулся из-под рук старухи и мигом выскочил за дверь.
А на улице уже стемнело так, что хоть глаза выколи. Я завернул к сараю, ощупью отыскал холодное, влажное от ночной сырости ружье, взял его наперевес и побежал к директорскому дому.
Там, под ветвями тополей, было еще темнее. Нынче все окна везде плотно занавешивали, на улицу из дома Валерьяна Петровича не проникал ни один лучик. В этой черноте кусты сирени казались темными копнами, в них шелестел ветер. Я свистнул, Буслай отозвался:
— Тебя за смертью посылать.
— Так патронов не было.
— Нашел?
— Нашел.
Буслай даже не спросил, где я раздобыл патроны, да на его месте и я бы не занимался лишними разговорами. Какие тут разговоры, когда кругом ночь, тьма и где-то рядом бродит шпион.
— Он еще не вернулся? — прошептал я.
— Кажется, не вернулся. Да в таких потемках и лестницы не видать. Но я бы услышал. Только это хорошо, что не вернулся. На чердаке успеем спрятаться. Ружье зарядил?
— Нет.
— Растяпа! — опять заругался шепотом Буслай.
Он отнял у меня один патрон, ружье и щелкнул затвором:
— Пошли?
— Пошли, — отозвался я, а у самого ноги совсем ватные, а в животе такой холод, словно там ледышка. Но я понимаю, что это не ледышка, что это — страх. Я стискиваю кулаки и дрожащей ногой нащупываю ступеньку лестницы.
Буслаю, наверное, было тоже страшно. На лестницу он ступил только тогда, когда я поравнялся с ним. Перешагивали мы на цыпочках. Но под ногами все равно поскрипывало. Как только скрипнет, так я тут же и замру, а Женька привскинет ружье, и оба стоим, трясемся.
Наконец добрались до чердачной двери. Стекла в ней хотя и слабо, но поблескивают. Я поглядел на нее и сразу ухватил Буслая за пиджак:
— Дверь-то…
— Что дверь?
— Она ПРИКРЫТА!
— Ну и что?
— Так раньше она была ОТКРЫТА.
— Когда раньше?
— Когда мы сбегали с чердака. Я хорошо помню. Я оглянулся и увидел: дверь настежь.
Я даже повел в темноте рукой, показал, как была распахнута дверь. Но Буслай помолчал, подумал и медленным, упрямым голосом прошептал:
— Все равно… мы должны… туда… войти. Все равно должны проверить.
И, вижу, он тянется стволом ружья к двери, собирается ее толкнуть.
— Не толкай, — прошу я, — открывай помаленьку.
— Нет, — отвечает Буслай. — Я открою сразу, а ты, если кто выскочит, катись кубарем вниз. Я — за тобой.
И вот он толкнул дверь, она распахнулась, ударила скобой о стенку, отскочила, покачалась на петлях и — замерла.
Из непроглядной тьмы никто не выскакивал, оттуда лишь потянуло сухим, пахнущим пылью воздухом.
Мы постояли, перевели дух и плечом к плечу полезли через порог. В темноте я задел дверь, она опять стукнула, и тут…
И тут на нас рухнуло что-то огромное, свистящее, галдящее. В лицо мне ударил вихрь, сшиб с ног, я заорал:
— Женька, стреляй!
Грохнул выстрел. Он резко высветил чердак, но я ничего не увидел. Кто-то хлестнул меня по щеке, я упал, накрыл голову рукой, а другой рукой стал шарить вокруг себя, искать Женьку. Он лежал рядом, наши руки встретились. Оглушительный ор и свист начали утихать, перешли в отрывистые странные вскрики, словно кто пронзительным, тонким голосом жаловался: «Ай! Ай! Ай!» И я вспомнил, что так вот, сначала заполошно, а потом все тише и реже галдит вспугнутая галочья стая. Таких стай у нас развелось видимо-невидимо. Днем их излюбленным местом была тополиная роща у вокзала, а на ночь галки рассовывались по всем чердакам.
— Черт! — забранился Буслай. — Теперь все. Теперь надо смазывать пятки.
А я и сам понимал: с чердака надо бежать. Выстрел наверняка поднял весь поселок. Но Буслай с перепугу обронил ружье, и в этой кромешной тьме мы не могли его разыскать.