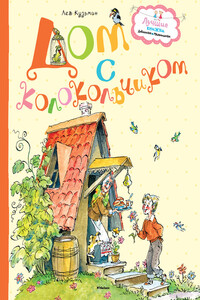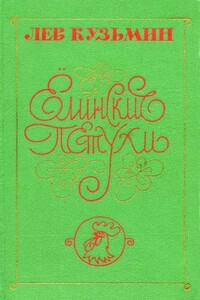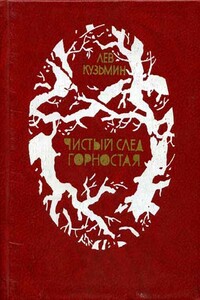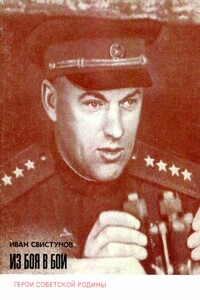Ружье висело в холодном чулане, в сенях. Было оно системы Бердана, одноствольное, легкое, с винтовочным затвором.
Я тихонько, чтобы не слышали Шурка с Наташкой, снял ружье со стены, клацнул затвором — он действовал.
Я прислонил ружье к двери, стал искать патроны. Нашел бычий рог с капсюлями, нашел одну позеленевшую гильзу, а готовых патронов нигде не было. Не нашел я и коробки с порохом. Наверное, отец истратил порох весь или поопасался оставить дома и отдал кому-нибудь из охотников. Может, деду Николаю.
Я выскочил из чулана, спрятал ружье под козий сарай и припустил к печникову дому.
Стучаться в дверь, когда входишь к соседям, у нас не принято, и я пулей влетел в дом Бабашкиных.
Тетка Евстолия, печникова старуха, стояла у стола, снимала кухонной тряпкой с горячего чугуна крышку, а печник сидел за столом. Перед ним в глубокой тарелке лежали грузди, печник втыкал в них вилку и резал ножом. Он увидел меня, ничуть не удивился:
— Садись, гостем будешь. Принеси-ка, мать, и ему вилку.
Я вдохнул аппетитный груздевый дух, медленно выдохнул, покачал головой:
— Не надо. Мне некогда.
— А если некогда, сказывай, зачем пришел, куда торопишься.
Я чуть не выпалил, что тороплюсь ловить шпиона, да вовремя спохватился. «Нет, — думаю, — этак испорчу всю затею, да пороху печник не даст». Я сказал:
— Женька Буслай ногу напорол. На гвоздь. На ржавый!
Старуха выпустила крышку из рук, изумленно глянула на меня:
— Когда это? Я ведь только что вас обоих видела.
— Он только что и напорол. Кровищи натек целый ботинок.
Тетка Евстолия как услышала про ботинок, так сразу поверила, кинулась к шкафу со стеклянными дверцами и давай там передвигать чашки, рюмки, стаканы.
А печник покрикивает, торопит:
— Да не тут ищешь, мать, не тут. Йод сверху, на маленькой полочке стоит.
Она шарит по полкам, звенит посудой, а я смотрю и думаю: «Ну, брат, и влип ты с этим враньем!»
А старуха сует мне в руки пузырек с йодом, толкает меня сухим кулачком в спину, кричит:
— Что встал-то? Что встал как пень? Беги скорей! Нет, обожди. Я сама с тобой пойду.
Старуха начала торопливо повязывать платок, а я совсем растерялся, подскочил к двери, ухватил покрепче скобу и говорю:
— Не надо ходить. Ему теперь лучше. И кровь у него не бежит. Это раньше бежала, а теперь не бежит. И просит Женька не йоду, а пороху.
— Что? — встал на ноги и сам Бабашкин. — Какого пороху?
— Любого. Хоть дымного, хоть бездымного. Для раны годится любой. Это известно каждому: порохом лечились запорожцы, — зачастил я, а сам чувствую: лицо и уши горят у меня жарким пламенем.
Тут печник вылез из-за стола, взялся за борт моей кацавейки, легонько потянул к себе:
— Врешь ведь, паршивец?
Я опустил голову, согласился:
— Вру.
— А зачем врешь? Куда вам порох?
Стараясь не глядеть печнику в глаза, я ответил:
— На рябчиков мы с Женькой собрались. Вон их сколько вокруг станции насвистывает. Утром и на охоту сбегаем, и на работу поспеем.
Печник отпустил мою кацавейку и вдруг утвердительно кивнул:
— Похоже на правду. Пороху дам. На два выстрела. Каждому по одному. Так лучше — зря пулять не станете. Но, чур, больше не врать!