Чистая вода - [35]
Я обратился к папе Сереже; оказалось, он по горло занят и ему не до нас. Дел у него было и впрямь невпроворот: этот респектабельный молодящийся человек был поглощен тем, что сравнивал свой жизненный уровень с жизненным уровнем американцев, занимавших такое же служебное положение, как и он. Разумеется, если в США имелись заместители директоров домостроительных комбинатов, отвечавших за распределение жилья. Американские управляющие трепетали бы, узнав, что у папы Сережи они находятся под контролем, не менее бдительным и пристальным, чем рецидивисты в районных прокуратурах СССР. Так и не поняв толком, какая вожжа попала мне под хвост, он отвлекся ровно настолько, чтобы купить «Москвич-412» и выписать доверенность на мое имя. Он справился с этим быстро, он со всем справлялся быстро, иначе не был бы тем, кем был. Так я узнал, сколько стою в рублях. Пять тысяч — такова была первая цена, и торги еще не начались.
Но я не стал ждать начала. Однажды, проснувшись утром, я дождался, пока все ушли, побрился, сложил вещи, выкурил сигарету и вышел за порог, чтобы никогда больше не вернуться ни к умопомрачительной Тане, ни к квартире, воплощавшей мечту мясника, ни к «Москвичу-412», поблескивавшему в темноте гаража тускло, скрытно и выжидательно.
Я спустился по лестнице с сумкой в руках и вышел на улицу, чтобы тем же вечером расклеивать объявления на фанерных щитах и фонарных столбах, потому что мою койку в общежитии занял архитектор-третьекурсник из Витебска.
Почему я тогда не уехал?
Как я жил дальше, вспоминать было недолго. Я ел, потому что знал: нужно есть. Я спал, потому что знал: нужно спать. Я работал, чертил и ходил на лекции, потому что знал: нужно работать, чертить и ходить на лекции. А потом настал день, когда в залитой солнечным светом аудитории секретарь дипломной комиссии сказала, что я могу снять свои чертежи. Я же стоял перед длинным, покрытым зеленой скатертью столом, в рубашке с раскисшим воротником и пропотевшими подмышками, с эбонитовой указкой в руке и не мог поверить, что всему этому наступил конец.
Я мог уехать и тогда, когда Вера Ивановна сказала, остановившись позади меня в воротах станционного двора: «Вот это и есть станция». Мог на следующий день сказать Мирояну: «Передумал, ищите другого!» — и сесть в поезд, и смотреть, как вьется насыпь под перестук колес — размеренный, неумолчный и нескончаемый.
Но я знал, что не сделаю этого. Раз от раза оно зрело и укреплялось во мне — мое знание. Стоило заглянуть в себя, и я находил его там, припрятанное до поры до времени.
Рассвет высветлил проем окна. Я лежал на скомканных простынях, натянув одеяло до подбородка и уставившись в потолок, по которому сигаретный дым растекался в полумраке. Пепельница рядом со мной постепенно наполнялась окурками, а мысли разбредались во все концы сознания, как солдаты разгромленной армии после капитуляции. Нет одиночества полнее, чем в продымленной комнате под утро, когда не зажигаешь свет.
И я снова прокручивал былое, будто мальчишка, у которого в руках фильмоскоп с одни единственным диафильмом. Я чувствовал, что оно при мне — мое знание. Что оно останется моим навсегда. Потому что этой ночью, когда боль гнала сон и темнота следила за мной, припав к оконному стеклу, знание утратило покровы и явило мне свой истинный смысл.
Будущее состоит из прошлого. И, куда бы ты ни уехал, что ни делал бы, пытаясь отгородиться от своего прошлого расстоянием или временем, прошлое всегда пребудет с тобой, потому что оно есть ты. И, когда наступит время создавать будущее, ты обратишься к прошлому. Потому что прошлое станет в будущем частью твоего нового я.
Я смотрел, как в комнату на цыпочках входит Борька. Как осторожно, чтобы не скрипнули, он раскрывает дверцы шкафа. Как достает мои рубашки и складывает их на стул. Я смотрел на него со своего островка знания, испытывая жгучее сострадание к нему и к тому, что он не знает того, что знаю я, и бесполезно рассказывать ему о моем знании, потому что оно станет его знанием только тогда, когда он откроет его сам. Я испытывал одновременно и жалость, и усталость, и ни с чем не сравнимую опустошенность внутри. Потому что знал, что скажу ему.
И я сказал:
— Положи их обратно. Я передумал. Я никуда не поеду. Я остаюсь.
Глава тринадцатая
Четверг и пятницу я провел дома. Спустился я только раз — позвонил на станцию сказать машинисткам, что болен. Я надеялся, что кровоподтеки и синяки к понедельнику сойдут — но где там! — им еще предстояло сделаться синими, потом пожелтеть. И до всего этого было жить и жить.
Борька закончил перепечатывать рассказы. Он позволил мне потрогать рукопись, чтобы я на ощупь прочувствовал, какая толстая получилась пачка. Потом ухмыльнулся, разложил рукописи по папкам и спрятал их в свой чемодан. Мы включили хозяйский магнитофон и, развалившись на кровати, слушали, как негритянские голоса молят о несбыточном господа бога. И солнечный свет лился в комнату таким потоком, что казалось, конца ему не будет.
То и дело мне мерещилось, будто к нам звонят; я вскакивал и мчался открывать, хотя звонка не было. Эти галлюцинации взвинтили меня так, что, перевернув все вверх дном, я отыскал две ночные рубашки, лифчик, полотенце, заколку, зубную щетку, пудреницу и тени для век, спрятал все это в целлофановый пакет и положил его в изголовье кровати. Если она скажет, что пришла за вещами, я возьму пакет и вынесу ей в коридор. Стоило мне представить эту сцену, и мной овладевало такое чувство, будто меня гнусно предали и я обнаружил это только сейчас. Она не возвращалась, и этот факт можно было истолковать двояко: она не торопилась перебраться из общежития, ожидая, что Толик прикатит на своих пожарно-красных «Жигулях», узнав, что здесь его время истекает, или она не торопилась перебраться, желая хорошенько убедиться, что во мне есть то самое, чего не оказалось в Толике. Что я, по ее разумению, опроверг, когда мы с ним сошлись в станционном дворе познакомиться поближе.

В сборник «Город на заре» входят рассказы разных лет, разные тематически, стилистически; если на первый взгляд что-то и объединяет их, так это впечатляющее мастерство! Валерий Дашевский — это старая школа, причем, не американского «черного романа» или латиноамериканской литературы, а, скорее, стилистики наших переводчиков. Большинство рассказов могли бы украсить любую антологию, в лучших Дашевский достигает фолкнеровских вершин. Его восприятие жизни и отношение к искусству чрезвычайно интересны; его истоки в судьбах поэтов «золотого века» (Пушкин, Грибоедов, Бестужев-Марлинский), в дендизме, в цельности и стойкости, они — ось, вокруг которой вращается его вселенная, пространства, населенные людьми..Валерий Дашевский печатается в США и Израиле.

Повесть «СТО ФИЛЬТРОВ И ВЕДРО» написана в жанре плутовского романа, по сути, это притча о русском бизнесе. Она была бы памфлетом, если бы не сарказм и откровенное чувство горечи. Ее можно было бы отнести к прозе нон-фикшн, если бы Валерий Дашевский не изменил фамилии.Наравне с мастерством впечатляет изумительное знание материала, всегда отличающее прозу Валерия Дашевского, годы в топ-менеджменте определенно не пропали даром для автора. Действие происходит незадолго до дефолта 1998 года. Рассказчик (герой) — человек поколения 80-х, с едким умом и редким чувством юмора — профессиональный менеджер, пытается удержать на плаву оптовую фирму, торгующую фильтрами для очистки воды.

Его арестовали, судили и за участие в военной организации большевиков приговорили к восьми годам каторжных работ в Сибири. На юге России у него осталась любимая и любящая жена. В Нерчинске другая женщина заняла ее место… Рассказ впервые был опубликован в № 3 журнала «Сибирские огни» за 1922 г.

Маленький человечек Абрам Дроль продает мышеловки, яды для крыс и насекомых. И в жару и в холод он стоит возле перил каменной лестницы, по которой люди спешат по своим делам, и выкрикивает скрипучим, простуженным голосом одну и ту же фразу… Один из ранних рассказов Владимира Владко. Напечатан в газете "Харьковский пролетарий" в 1926 году.

Прозаика Вадима Чернова хорошо знают на Ставрополье, где вышло уже несколько его книг. В новый его сборник включены две повести, в которых автор правдиво рассказал о моряках-краболовах.
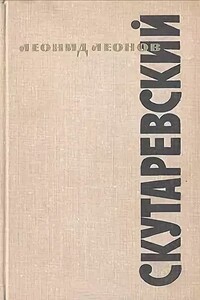
Известный роман выдающегося советского писателя Героя Социалистического Труда Леонида Максимовича Леонова «Скутаревский» проникнут драматизмом классовых столкновений, происходивших в нашей стране в конце 20-х — начале 30-х годов. Основа сюжета — идейное размежевание в среде старых ученых. Главный герой романа — профессор Скутаревский, энтузиаст науки, — ценой нелегких испытаний и личных потерь с честью выходит из сложного социально-психологического конфликта.
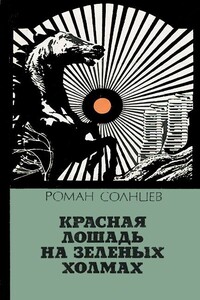
Герой повести Алмаз Шагидуллин приезжает из деревни на гигантскую стройку Каваз. О верности делу, которому отдают все силы Шагидуллин и его товарищи, о вхождении молодого человека в самостоятельную жизнь — вот о чем повествует в своем новом произведении красноярский поэт и прозаик Роман Солнцев.

Владимир Поляков — известный автор сатирических комедий, комедийных фильмов и пьес для театров, автор многих спектаклей Театра миниатюр под руководством Аркадия Райкина. Им написано множество юмористических и сатирических рассказов и фельетонов, вышедших в его книгах «День открытых сердец», «Я иду на свидание», «Семь этажей без лифта» и др. Для его рассказов характерно сочетание юмора, сатиры и лирики.Новая книга «Моя сто девяностая школа» не совсем обычна для Полякова: в ней лирико-юмористические рассказы переплетаются с воспоминаниями детства, героями рассказов являются его товарищи по школьной скамье, а местом действия — сто девяностая школа, ныне сорок седьмая школа Ленинграда.Книга изобилует веселыми ситуациями, достоверными приметами быстротекущего, изменчивого времени.