Четыре рассказа - [7]
Тут, как и в любой навозной куче, водилось жемчужное зерно. Андрей вспомнил регулярные визиты матери на кладбище, к деду с бабкой, лет до двенадцати она и его туда таскала. Заходя в ограду, следовало поздороваться, выходя — попрощаться; мать выпивала полстакана водки, оставляла почти полную бутылку возле памятника, крошила на землю черствый общепитовский пирожок, другой совала Андрею на помин души, а перед Новым годом ставила на могиле елку, убранную открытками и бумажными гирляндами. Наблюдать эту заупокойную комедию было тошно.
Да что там мать, — Ленка, белобрысая соседская девчонка, за семикопеечную мороженку в бумажном стаканчике позволяла лазить себе в трусы, но едва увидела, как пацаны пинают по двору мертвого воробья, маленькую потаскуху будто подменили; вырыла на клумбе ямку, выстелила дно конфетной золотинкой, аккуратно уложила туда дохлятину скрюченными лапами вверх, накрыла цветным стеклышком, присыпала землей, слетала домой, вернулась со звездочкой на груди и зачастила: ниточкаиголочка-краснаязвезда-ленинаисталина-обманыватьнельзя-даю-честнооктябренское-любить-природу.
Не так уж сильно, выходит, заклинило Достоевского, как сперва показалось.
Он стоял в больничном коридоре и рассматривал ватманский лист, прикнопленный к стене: аборт – враг женщины, какие-то схемы, а в конце стихи, написанные красным фломастером. Опусти секиру, мама, не руби, мое крохотное тело не губи, да уж, санпросвет на высоте. Окна на три четверти были замазаны белой краской, он двинулся по коридору, открывая двери одну за другой, зачем, он и сам не знал, но очередной бокс рассказал, зачем именно. Белый кафель, забрызганный кровью, хищная элегантность никелированных инструментов в эмалевой кювете, и Скво — вывихнутая во всех суставах, похабно раскоряченная, изжеванная гинекологическим креслом, без ленивой полуулыбки на синих искусанных губах. Он попятился, бытро пошел, почти побежал назад, ударил в неподатливую дверь всем телом и упал в смрадную канализационную слякоть. Издали слышался смутный шум, и он почти вслепую побрел на звук. Серый луч, упавший сверху, высветил голую девочку лет двенадцати, она танцевала по колено в воде: набухшие бутоны тугих сосков, впадина живота с черной ямкой пупка, угловатые крылья лопаток, упругие мячики ягодиц, налитых ранней женственностью, хаотические движения тонких рук. Изломанная, силлабическая пляска наготы была мучительна и нескончаема. Подойдя ближе, он увидел полуоткрытый слюнявый рот, белки глаз, закатившихся под лоб, и понял, что это вновь она, и понял, что она мертва. Шум стал яснее, слух выхватывал отдельные слова: во блаженном успении... усопшей рабе Твоея и сотвори... Рыжие волосы в гризайлевой полумгле казались седыми.
Господи, что за тяжкий труд — продираться к самому себе сквозь амитриптилиновую муть, принудить сонную и отупевшую скотину посмеяться над резонерством засранца Гегеля: все сущее разумно, ну, еще бы. Тебя бы с профессорской кафедры да на здешнюю койку и пару кубов аминазина в задницу, чтоб служба медом не казалась, а потом уж мы потолкуем насчет разумности всего сущего. Что за неподъемная работа — отыскать пачку «Опала», где притаились две последние сигареты, пройти километровый путь до сортира и одну за другой потушить их о тыльную сторону ладони в надежде на то, что боль поможет вернуться в человеческий облик. Но надежда — мать дураков, не вышло. А лучше выдумать не мог.
Михалыч, так кому здешний персонал служит, можешь объяснить? Кладбищу, юноша; нет, точнее не так: есть какая-то безликая мертвая сила, и в этой стране все, от Андропова до Лебедева исполняют ее волю — наделать как можно больше живых покойников, зомби с парой эмоций и одной извилиной. А тому, кто хоть на йоту отличается, — сто колов в рот и якорь в задницу, приговор окончательный, обжалованию не подлежит. Вот хоть твоя вялотекущая шизофрения: мне доводилось слышать, что такого заболевания вообще нет, диагноз сочинили по кремлевскому заказу, специально для Рогозина энд Ко. Будут тебе, юноша, мальчики кровавые в глазах, я же говорю, что колеса — самый ласковый вариант. На хера, думаешь, мне циклодол, только для растормозки? да пока я обдолбанный, им меня не достать, пока в башке одна дурь, мне туда другую не вобьют. Нам осталось уколоться и упасть на дно колодца, сказал Андрей, ну, и что прикажешь делать, баррикады строить? Упаси Бог, юноша, от такой напасти: во-первых, все кровью умоемся; во-вторых, нет тирана страшнее, чем бывший раб, это мы уже проходили; в-третьих, кладбище все равно останется кладбищем, — кадаверин[1] у нас в крови. Черт догадал меня в России родиться, черт догадал всех нас тут родиться, сокрушенно резюмировал Достоевский.
Андрея позвали вниз, он ожидал увидеть мать, но пришла Верка-кураторша, вся институтская и родная — от подвижного обезьяньего личика до желтых прокуренных пальцев, и он едва не бросился ей на шею. Вот, объявила Верка, бумаги твои сюда привезла, надо же, и психиатрам характеристика требуется, развели бюрократию, мать их так; а где тут у вас курят? Андрей указал на дверь предбанника, они уселись на подоконник, Верка выудила из кармана початую пачку «Космоса» со своей любимой присказкой: бросай курить, вставай на лыжи, здоровьем будешь не обижен. И что в характеристике, спросил Андрей. Самая заурядная ботва, скривилась Верка, я же сама ее писала, за что боролись, на то и напоролись: морально устойчив, политически грамотен, характер нордический, беспощаден к врагам рейха. В деканате, надо думать, кипешат на мой счет? Что там, забот других нет, кроме твоей персоны? я говорю, что ты этого достоин в самом лучшем смысле слова, остальные молчат. У меня наконец-то дошли руки до твоей работы по Гаршину: часть про символику проработана из рук вон хреново, но кое-что мне понравилось. Особенно тот кусок, где про страдания сумасшедшего, которые ставят человека на грань бытия и небытия и обостряют сверхчувственное восприятие. Я просто развивал тезис Ясперса о пограничной ситуации, сказал Андрей, сейчас бы мне это переписать — с учетом практического опыта. Верка щурилась сквозь табачный дым, и он чувствовал какую-то преграду между ней и собой. Вера Алексеевна, вы, по-моему, что-то не договариваете, меня отчислять собрались? Ну, вот еще, хмыкнула Верка, дело-то житейское, ума нет — идут в пед, не таких еще видали. А что тогда? Андрюша, ты только, пожалуйста, без эмоций, ладно? Век воли не видать, забожился Андрей. Скворцову позавчера схоронили: криминальный аборт, перитонит, в общем, ты понимаешь. Захотела сучка красивой жизни, сколько раз говорила этой дуре, что чурки до добра не доведут. Андрей прислушался к себе: лезвие внутри шевельнулось, но едва ощутимо. Ну, что ж, сказал он, земля ей пухом. Верка положила ему руку на плечо: а ты молодец, это по-мужски, так и надо, не фиг дерьма жалеть, все бабы сам знаешь кто. Пардон, Вера Алексеевна, и вы в том числе? Ну, ты ха-ам, протянула Верка, но обобщать не стоит. Бабка моя, Гоэлрина Викентьевна Долгушина — да ты слыхал, наверно? Андрей вспомнил размытую фотку мордастой девахи на музейном стенде: как же, комсомольская богиня. Так вот, моя баба Геля в двадцатые отработала передком за себя и за того парня, и я, по закону сохранения массы, в свои тридцать два девочка-ромашка, — как-то, знаешь ли, не вышло. Ты прости, что я к тебе с пустыми руками, все как-то наспех, бегом. Да не надо мне ничего, вот только пару сигарет, а то курево в дефиците. Верка сунула ему пачку: бери, да что ломаешься-то, как целка, в другой раз блок привезу, а пончиков с вареньем хочешь? у меня неплохо получаются. Вера Алексеевна, сказал Андрей с непонятным торжеством, вы можете смеяться, но я знал что-то такое про Скво. И вовсе не смешно, ответила Верка, значит, Ясперс пошел впрок. Скорее дурдом, поправил ее Андрей. Тебе виднее, но залеживаться тут не стоит.
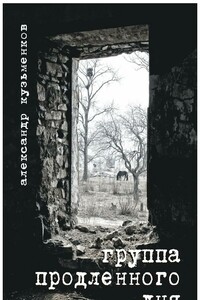
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Держать людей на расстоянии уже давно вошло у Уолласа в привычку. Нет, он не социофоб. Просто так безопасней. Он – первый за несколько десятков лет черный студент на факультете биохимии в Университете Среднего Запада. А еще он гей. Максимально не вписывается в местное общество, однако приспосабливаться умеет. Но разве Уолласу действительно хочется такой жизни? За одни летние выходные вся его тщательно упорядоченная действительность начинает постепенно рушиться, как домино. И стычки с коллегами, напряжение в коллективе друзей вдруг раскроют неожиданные привязанности, неприязнь, стремления, боль, страхи и воспоминания. Встречайте дебютный, частично автобиографичный и невероятный роман-становление Брендона Тейлора, вошедший в шорт-лист Букеровской премии 2020 года. В центре повествования темнокожий гей Уоллас, который получает ученую степень в Университете Среднего Запада.

Яркий литературный дебют: книга сразу оказалась в американских, а потом и мировых списках бестселлеров. Эмира – молодая чернокожая выпускница университета – подрабатывает бебиситтером, присматривая за маленькой дочерью успешной бизнес-леди Аликс. Однажды поздним вечером Аликс просит Эмиру срочно увести девочку из дома, потому что случилось ЧП. Эмира ведет подопечную в торговый центр, от скуки они начинают танцевать под музыку из мобильника. Охранник, увидев белую девочку в сопровождении чернокожей девицы, решает, что ребенка похитили, и пытается задержать Эмиру.

Отчаянное желание бывшего солдата из Уэльса Риза Гравенора найти сына, пропавшего в водовороте Второй мировой, приводит его во Францию. Париж лежит в руинах, кругом кровь, замешанная на страданиях тысяч людей. Вряд ли сын сумел выжить в этом аду… Но надежда вспыхивает с новой силой, когда помощь в поисках Ризу предлагает находчивая и храбрая Шарлотта. Захватывающая военная история о мужественных, сильных духом людях, готовых отдать жизнь во имя высоких идеалов и безграничной любви.

Некий писатель пытается воссоздать последний день жизни Самуэля – молодого человека, внезапно погибшего (покончившего с собой?) в автокатастрофе. В рассказах друзей, любимой девушки, родственников и соседей вырисовываются разные грани его личности: любящий внук, бюрократ поневоле, преданный друг, нелепый позер, влюбленный, готовый на все ради своей девушки… Что же остается от всех наших мимолетных воспоминаний? И что скрывается за тем, чего мы не помним? Это роман о любви и дружбе, предательстве и насилии, горе от потери близкого человека и одиночестве, о быстротечности времени и свойствах нашей памяти. Юнас Хассен Кемири (р.

Журналистка Эбба Линдквист переживает личностный кризис – она, специалист по семейным отношениям, образцовая жена и мать, поддается влечению к вновь возникшему в ее жизни кумиру юности, некогда популярному рок-музыканту. Ради него она бросает все, чего достигла за эти годы и что так яро отстаивала. Но отношения с человеком, чья жизненная позиция слишком сильно отличается от того, к чему она привыкла, не складываются гармонично. Доходит до того, что Эббе приходится посещать психотерапевта. И тут она получает заказ – написать статью об отношениях в длиною в жизнь.

Истории о том, как жизнь становится смертью и как после смерти все только начинается. Перерождение во всех его немыслимых формах. Черный юмор и бесконечная надежда.