Четыре рассказа - [14]
С верхней площадки доносился тонкий и надсадный кошачий плач. Кравцов поднялся этажом выше: возле мусоропровода самозабвенно тосковал черный, чуть больше ладони, котенок. Пойдем ко мне, предложил Кравцов, присев на корточки, у меня молоко есть, а ты пацан или девка? ну девка так девка.
От молока кошка отказалась, мытьем осталась недовольна и несколько раз пыталась выбраться из ванны, цепляясь за скользкие эмалевые края растопыренными лапами. Кравцов вытер ее полотенцем, и теперь она, мокрая и взъерошенная, прихорашивалась на полированном журнальном столе, напоминая вздыбленный ирокез на бритой башке панка. В замке кратко проскрежетал ключ: вернулась жена и тут же уперлась недовольным взглядом в кошку. Это еще что такое? В подъезде подобрал, объяснил Кравцов, пропадет ведь. У тебя что, прикол такой — всякую дрянь подбирать? давай и я начну, куда потом побежим, а ты что вообще так рано? Я с работы уволился, сказал Кравцов. Жена опустилась на край тахты: это шутка такая? Какая шутка, говорю же, — уволился. Жена помолчала, собирая воедино разрозненные попреки, и мгновение спустя на Кравцова обрушился камнепад визгливых проклятий: у тебя крыша поехала, мудак, и так живем от получки до получки, шмотку купить не на что, ты что завтра жрать думаешь, хуеплет сраный? Кошка, перепуганная надорванным речитативом, шарахнулась под стол. Я вообще-то пособие получил за три месяца, сказал Кравцов. Да пошел ты в жопу со своим пособием, ни украсть, ни покараулить, пиздюк ебаный, мне двадцать семь лет, я из-за тебя ребенка родить не могу, с голоду подохнет, ты мне кошку вместо ребенка приволок, — кошку, блядь! Жена сорвалась с места и, не прекращая причитать, кинулась к шифоньеру: пиздец, хватит с меня, я жить хочу, ты меня достал на хер. Ты куда собралась, спросил Кравцов. А тебя, козла, не ебет, ответила жена, приминая в сумке непокорный ворох тряпья. Как знаешь, сказал Кравцов.
Дверь хлопнула, Кравцов и кошка остались вдвоем в притихшей квартире. Он снял телефонную трубку: здравствуйте, Андрей, а подскажите какое-нибудь японское женское имя, чтоб для кошки подошло. Н-ну, скажем… Мурасаки, ответил Кабанов. Нет, не нравится, больно уж на Мурку похоже. Мурка, Маруся Климова, рассмеялся в трубку Кабанов, а если Миёси? Уже лучше, большое спасибо, сказал Кравцов.
Он вынул из кармана бумажник, набитый пятисотками, и зачем-то пересчитал купюры: их было сорок, итого двадцать тысяч. На жизнь должно хватить. На очень недолгую жизнь.
Ватанабэ склонился над чистым листом бумаги, начертил кистью несколько знаков, но тут же вымарал.
— Ты пишешь письмо? — раздался сзади голос Мокурая.
— Я хотел бы сложить стихи.
— Прощальные? Все еще хочешь выпустить себе кишки?
— Нет. Стихи о павших при Нагасино.
Мокурай одобрительно хмыкнул:
— Я был худшего мнения о нынешних самураях. Думал, если они в чем и смыслят, то лишь в «Биншу», и нет среди них второго Таданори.
— Наш покойный господин поощрял книжные занятия. Ученость для человека, говорил он, что листья и ветви для дерева.
— Так что же твои стихи?
— Ничего не выходит. Жаль, но я не Таданори.
— И в чем же помеха?
— Мне не написать лучше Сайгё:
— Как ты поступал со своими врагами? — спросил Мокурай после недолгого молчания.
— Убивал, иначе они убили бы меня, — пожал плечами Ватанабэ. — И что же?
— Так убей Сайгё, раз он тебе мешает, но прежде убей Ватанабэ Рантая, — пока они вдвоем не прикончили тебя.
— Простите, я не понимаю.
— Не думай, что я сам себя понимаю, — усмехнулся Мокурай.
Кравцова обступили странные, пустынные дни и ночи, наполненные бессонницей, хотя соседский приемник, начиненный разнокалиберной попсой, вежливо умолкал еще до полуночи. Вечерами Кравцов подолгу и трудно соскальзывал в дремоту, тихо и счастливо теряя самого себя, но непрочное, паутинное полузабытье в одночасье рвалось, и он распахивал глаза, наткнувшись всем телом на внезапную преграду, непонятную и неподатливую. Он мучительно пытался зарыться в сон, но вместо этого зарывался в противную мякоть подушки, нагретой с обеих сторон, и в конце концов оставлял истерзанную постель. Подчиняясь чему-то безотчетному, но беспрекословному внутри себя, он клал на колени клинок и надолго застывал, пристально вглядываясь в подступившую тьму. Он совладал-таки со звуками чужой речи и невесть зачем шептал: вакидзаси, и немного погодя повторял: да, вакидзаси, и это древнее слово тревожно холодило рот.
Меч, что лежал на его коленях, был поверенным мертвых, тусклый глянец лезвия хранил их яростную память: небо, расчерченное стрелами и небо, расчерченное дымными ракетами, хрипы побежденных и крики победителей, мрак, распоротый языками взбешенного пламени, неистовый стук копыт и неистовый стук пулеметных очередей. Настоящее в эти часы умирало, однако отзвуки и отблески прошлого жили свирепо и взахлеб и принуждали жить — обременяли душу невнятным, безысходным знанием, корежили тело, заставляя мышцы каменеть в напряженном ожидании неведомого, но наступало утро, и сон, снизойдя до подачки, укрывал Кравцова тонкой, полупрозрачной кисеей, сквозь которую сочился ручей чахлого серо-зеленого света. Вместе с ним в путаницу видений просачивались голоса улицы, где по-прежнему тяжело перекатывалась река чужого времени.
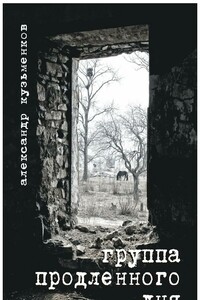
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Я был примерным студентом, хорошим парнем из благополучной московской семьи. Плыл по течению в надежде на счастливое будущее, пока в один миг все не перевернулось с ног на голову. На пути к счастью мне пришлось отказаться от привычных взглядов и забыть давно вбитые в голову правила. Ведь, как известно, настоящее чувство не может быть загнано в рамки. Но, начав жить не по общепринятым нормам, я понял, как судьба поступает с теми, кто позволил себе стать свободным. Моя история о Москве, о любви, об искусстве и немного обо всех нас.

Сергей Носов – прозаик, драматург, автор шести романов, нескольких книг рассказов и эссе, а также оригинальных работ по психологии памятников; лауреат премии «Национальный бестселлер» (за роман «Фигурные скобки») и финалист «Большой книги» («Франсуаза, или Путь к леднику»). Новая книга «Построение квадрата на шестом уроке» приглашает взглянуть на нашу жизнь с четырех неожиданных сторон и узнать, почему опасно ночевать на комаровской даче Ахматовой, где купался Керенский, что происходит в голове шестиклассника Ромы и зачем автор этой книги залез на Александровскую колонну…

В городе появляется новое лицо: загадочный белый человек. Пейл Арсин — альбинос. Люди относятся к нему настороженно. Его появление совпадает с убийством девочки. В Приюте уже много лет не происходило ничего подобного, и Пейлу нужно убедить целый город, что цвет волос и кожи не делает человека преступником. Роман «Белый человек» — история о толерантности, отношении к меньшинствам и социальной справедливости. Категорически не рекомендуется впечатлительным читателям и любителям счастливых финалов.

Кто продал искромсанный холст за три миллиона фунтов? Кто использовал мертвых зайцев и живых койотов в качестве материала для своих перформансов? Кто нарушил покой жителей уральского города, устроив у них под окнами новую культурную столицу России? Не знаете? Послушайте, да вы вообще ничего не знаете о современном искусстве! Эта книга даст вам возможность ликвидировать столь досадный пробел. Титанические аферы, шизофренические проекты, картины ада, а также блестящая лекция о том, куда же за сто лет приплыл пароход современности, – в сатирической дьяволиаде, написанной очень серьезным профессором-филологом. А началось все с того, что ясным мартовским утром 2009 года в тихий город Прыжовск прибыл голубоглазый галерист Кондрат Евсеевич Синькин, а за ним потянулись и лучшие силы актуального искусства.

