Честь: Духовная судьба и жизненная участь Ивана Дмитриевича Якушкина - [93]
И на Плеханова в свою очередь Шаховской старался как-то опереться напрасно. Уж кто-кто, а первый русский марксист Плеханов был, страдая многими, как мы знаем, иными грехами, очень при всем том далек от недооценки роли теории. Плеханов отлично знал, что, не нарисовав сначала «лодочку» в теории, недалеко или совсем не туда уплывешь на «всамделишной лодочке» практически-политического действия. А уж о противопоставлении «людей действия» «людям отвлеченной теории» у Плеханова, который как раз постоянно и пекся о преодолении дуализма во всех его проявлениях в ту пору своей борьбы с народническим «волюнтаризмом», и речи идти не могло. Вообще говоря, Плеханову, порой, как известно, скорее склонному к некой, быть может, переоценке «объективного фактора», было совершенно чуждо возвеличивание «кинжала» за счет принижения самого стремления к «выяснению общих начал» действительности.
К слову сказать, последнее обстоятельство проявилось и в той как раз оценке событий на Сенатской, которую дает Плеханов и которая, как мне кажется, еще недостаточно принимается во внимание теми из современных авторов, которые, исследуя события 14 декабря, едва ли не все свое внимание уделяют техническому, по существу, вопросу о том, в силу каких же это таких непростительных и почти необъяснимых промахов и ошибок возможное в действительности и вполне осуществимое с «чисто технической», военной точки зрения «дело» так и не совершилось, сорвалось.
Имея в виду военные действия декабристов, Плеханов писал: «С точки зрения собственно боевой целесообразности действия эти вряд ли могут выдержать даже снисходительную критику. Правда, много замешательства внесено было в них странным поведением Трубецкого, который не только не исполнил своей обязанности предводителя восстания, но даже не явился на Сенатскую площадь. Но уже одно то обстоятельство, что заговорщики, не решаясь действовать без его приказаний, ждали его до самого вечера в виду войск, остававшихся верными Николаю, как будто показывает, что они мало были расположены к наступательным действиям. Подобное же впечатление производят и многие другие происшествия как этого, так и предыдущего дня… Сердце обливается кровью, когда подумаешь, что благодаря всем этим и другим подобным ошибкам заговорщики лишились возможности нанести своим врагам жестокие и страшные удары. И невольно переспрашиваешь себя: да неужели же в самом деле не хватило находчивости, решительности или храбрости у этих блестящих военных людей, полных ума и энергии и умевших смотреть в глаза смерти без малейшей боязни? Нет, такое предположение решительно несообразно с тем, что мы знаем о декабристах. Но если это так, то спрашивается, чем же объясняется нецелесообразное поведение заговорщиков в день четырнадцатого декабря 1825 года?»
«Спрашивается» это и по сей день — во все новых и новых работах, посвященных выяснению причин неудачи декабристов. Долгое время в объяснение едва ли не главной причины неудачи приводились «изменничество» Трубецкого и оппортунистическое, так сказать, поведение некоторых иных руководителей восстания. Явись Трубецкой вовремя на площадь, возьми бразды в свои диктаторские руки — и все было бы «хорошо». Постепенно в ряде новейших интересных исследований стала вырисовываться мысль о той странной, двусмысленной, по меньшей мере, роли, которую сыграли в «роковой день» такие «сверхрешительные» натуры, как, к примеру, Якубович, который всю свою жизнь то только, кажется, и делал, что стрелял в разных людей, в Грибоедова в частности, а вот 14 декабря как раз и не стрелял как нарочно. Более пристально начинают многие исследователи относиться к тем «героям на час», которые вроде бы вдруг проснулись на один день, повели себя в этот день чрезвычайно бурно и несколько даже суматошно, словно опасаясь, что их не заметят, а потом сразу же или почти сразу же отдали свои шпаги победителю. Действительно, как на это указывается все чаще во все большем числе работ, посвященных декабризму, очень разные люди оказались вовлеченными в движение и по очень разным побуждениям оказались они в один и тот же день на одной и той же площади или хотя бы направлялись к ней. И вот возникает вопрос: может быть, именно это обстоятельство, то есть именно «слишком» большая «пестрота» самых разных социально-психологических «составных» декабризма и оказалась причиной его поражения? Вопрос этот заслуживает внимания и даже, как мне кажется, некоторой настороженности, ибо предполагает некий ответ, в общем-то ведущий к той мысли, что сила всякого движения заключается в непременном условии его единообразия, скажем так. Но ведь декабризм как раз и интересен, и замечателен-то тем именно, что перерастал узость заговорщичества, превращался, постоянно меняя свои организационные формы, как бы все примеряя их к себе и все не находя подходящей и общей, в движение. В этом была прежде всего, убежден, не слабость (хотя это обстоятельство и имело свои неизбежные слабые стороны), а сила и новизна, новое качество, которые внес декабризм в русское освободительное движение, постоянно раскачивавшееся до той поры от дворцовых переворотов до крестьянских слепых бунтов, а не в том, что декабризм так и не стал замкнутой и наглухо законспирированной организацией функционеров-подпольщиков, о чем столь самоочевидно ретроспективно сожалели многие исследователи и истолкователи декабризма. Луначарский совершенно справедливо отмечал, что «самый декабризм представлял собой громадную радугу — от консерватизма, через либерализм к якобинству». Да еще при этом, как говорит тот же Луначарский, «круг декабристов, понятно, не охватывал собой всех либерально и прогрессивно мыслящих русских людей, за его пределами оставались крупные фигуры, только до известной степени затронутые движением, как Пушкин, Грибоедов»… Декабризм по природе своей не был и не мог быть явлением партийным в современном или просто более позднем значении этого слова; декабризм был явлением плюралистическим, если позволено будет так выразиться, по самой своей социально-психологической природе. В декабризм входили (в широком смысле этого понятия) и «декабристы без декабря» и «декабристы до декабря» и «декабристы после Сенатской». И вся эта социально-психологическая «субстанция» непрерывно находилась в движении и брожении, многообразно контактируя со всей окружающей жизнью, то конденсируясь, то растекаясь; одни и те же люди то примыкали к декабризму, то отходили от него, то оставались в пограничном состоянии духа, совершенно естественным образом сохраняя, во всяком случае, за собой личностное право «самоопределения вплоть до отделения». Какие-то пустые на вид разговоры о ритуальной стороне внешнего оформления «членства» в Тайном обществе, которыми столько занимались руководители, скажем, Союза благоденствия, оказываются в этом отношении весьма не пустыми. И тот же наш Якушкин совсем не «просто так» столь резко возражал против «заклинательной присяги» при приеме в Общество и прочих видах ущемления личностного «суверенитета» тех, кто вступал в Общество или примыкал к нему. И Пестель совсем не случайно такое внимание уделял «структуированию»
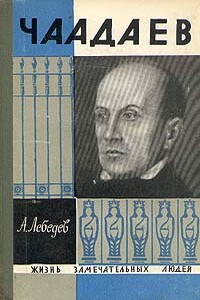
Петр Яковлевич Чаадаев (1794 — 1856) русский мыслитель и публицист. Родился в дворянской семье. Участник Отечественной войны 1812 и заграничных походов 1813-14. C 1816 член масонской ложи «Соединённых друзей» (вместе с А. С. Грибоедовым, П. И. Пестелем, С. П. Волконским, М. И. Муравьевым-Апостолом).

Кшиштоф Занусси (род. в 1939 г.) — выдающийся польский режиссер, сценарист и писатель, лауреат многих кинофестивалей, обладатель многочисленных призов, среди которых — премия им. Параджанова «За вклад в мировой кинематограф» Ереванского международного кинофестиваля (2005). В издательстве «Фолио» увидели свет книги К. Занусси «Час помирати» (2013), «Стратегії життя, або Як з’їсти тістечко і далі його мати» (2015), «Страта двійника» (2016). «Императив. Беседы в Лясках» — это не только воспоминания выдающегося режиссера о жизни и творчестве, о людях, с которыми он встречался, о важнейших событиях, свидетелем которых он был.

Часто, когда мы изучаем историю и вообще хоть что-то узнаем о женщинах, которые в ней участвовали, их описывают как милых, приличных и скучных паинек. Такое ощущение, что они всю жизнь только и делают, что направляют свой грустный, но прекрасный взор на свое блестящее будущее. Но в этой книге паинек вы не найдете. 100 настоящих хулиганок, которые плевали на правила и мнение других людей и меняли мир. Некоторых из них вы уже наверняка знаете (но много чего о них не слышали), а другие пока не пробились в учебники по истории.

«Пазл Горенштейна», который собрал для нас Юрий Векслер, отвечает на многие вопросы о «Достоевском XX века» и оставляет мучительное желание читать Горенштейна и о Горенштейне еще. В этой книге впервые в России публикуются документы, связанные с творческими отношениями Горенштейна и Андрея Тарковского, полемика с Григорием Померанцем и несколько эссе, статьи Ефима Эткинда и других авторов, интервью Джону Глэду, Виктору Ерофееву и т.д. Кроме того, в книгу включены воспоминания самого Фридриха Горенштейна, а также мемуары Андрея Кончаловского, Марка Розовского, Паолы Волковой и многих других.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Это была сенсационная находка: в конце Второй мировой войны американский военный юрист Бенджамин Ференц обнаружил тщательно заархивированные подробные отчеты об убийствах, совершавшихся специальными командами – айнзацгруппами СС. Обнаруживший документы Бен Ференц стал главным обвинителем в судебном процессе в Нюрнберге, рассмотревшем самые массовые убийства в истории человечества. Представшим перед судом старшим офицерам СС были предъявлены обвинения в систематическом уничтожении более 1 млн человек, главным образом на оккупированной нацистами территории СССР.

Монография посвящена жизни берлинских семей среднего класса в 1933–1945 годы. Насколько семейная жизнь как «последняя крепость» испытала влияние национал-социализма, как нацистский режим стремился унифицировать и консолидировать общество, вторгнуться в самые приватные сферы человеческой жизни, почему современники считали свою жизнь «обычной», — на все эти вопросы автор дает ответы, основываясь прежде всего на первоисточниках: материалах берлинских архивов, воспоминаниях и интервью со старыми берлинцами.

Резонансные «нововзглядовские» колонки Новодворской за 1993-1994 годы. «Дело Новодворской» и уход из «Нового Взгляда». Посмертные отзывы и воспоминания. Официальная биография Новодворской. Библиография Новодворской за 1993-1994 годы.