Чертовицкие рассказы - [3]
Таким разговорам, может, и не дали бы особой веры, да в это же лето в Воронеж приезжал царский наследник, и весь город с завистью и изумлением видел, как царский воспитатель, его высокопревосходительство господин Жуковский, запросто, запанибрата прохаживался с Алексеем по Дворянской улице, заходил в гости к Кольцовым и пил у них чай. После этого случая все в Воронеже стали вдруг набиваться в друзья к Алексею и всем он вдруг сразу полюбился.
От всей души полюбил его и Прохор, но только ему было неважно, что Кольцов прогуливался под ручку с самим Жуковским, да он и не знал, кто это такой – Жуковский.
В конце лета старик Кольцов велел Алексею ехать «на линию», то есть в азиятские степи, где можно было за бесценок купить скот. В такие длительные поездки Алексей брал с собой трех-четырех надежных гуртовщиков. И на этот раз он отобрал себе в товарищи четырех человек, в числе которых был и Прохор.
Стоял теплый сентябрь, ехать было хорошо. Кольцова все радовало: вон в побуревшей траве лисий хвост мелькнул, вон ястреб камнем упал в полынную заросль, вон круглое озерцо блеснуло… У речки либо у озера становились на ночлег, разводили костер и готовили ужин. Кашеварил обычно дед Пантелей, балагур, тертый калач, такой старый, что помнил царицу Катерину и Суворова. Однако сколько ему было лет, не знал.
– Лет-то лет, да и годов, – говаривал. – Чего их считать, что они – деньги, что ли?
Два других гуртовщика были братья-близнецы Ельшины – Иван да Федор. Оба коренастые, чернобородые, с разбойничьими глазами и до того похожие друг на друга, что если б не серьга в Ивановом ухе, так их и различить было бы невозможно. Они все больше помалкивали, молча ужинали, а поевши, сразу заваливались спать. Ложился и Пантелей, но перед сном долго шептал молитвы, кланялся на восток, а потом, уже улегшись, кряхтел и ворочался: от ночной сырости у него болели ноги.
Кольцову же не спалось. Примостясь поближе к костру, он или читал книжку, или что-то записывал в свою небольшую памятную тетрадку.
Прохор тоже не вдруг ложился и тоже, как Кольцов, подолгу сиживал у огня, вырезая ножом на ореховой палочке затейливые узоры. Время от времени он искоса поглядывал на Алексея: тот читал, улыбался, хмурился.
Тишина стояла ночью в степи, только иной раз встревоженная лошадь всхрапнет, загремит цепью или тоненько пискнет над головой невидимая ночная птица – и снова тишина да небо, усыпанное далекими звездами. И уже успокоится, уснет Пантелей, и на деревенской колокольне сонный звонарь пробьет полночь, а Кольцов все не спит, все читает…
И вот как-то один раз, когда Кольцов что-то записывал в свою тетрадку, Прохор возьми да и окликни его:
– Василич! А Василич!
Кольцов не отозвался. Он кусал кончик карандаша и так глядел на огонь, словно что-то видел там в веселых языках жаркого пламени, в красно-золотых городах нагоревшего крупного жара. Прохор удивился и, привстав на колени, заглянул в костер: нет, ничего такого там не было.
Он оробел, подумал, уж не приключилось ли что с хозяином, и когда тот, оторвав взгляд от костра, стал записывать в тетрадку, снова окликнул его. Алексей мотнул головой и продолжал писать. «Нет, погоди, – подумал Прохор, – я так от тебя не отвяжусь…» Дождался, когда Кольцов кончил писать и снова позвал:
– Василич!
– Ты чего? – вздрогнул Кольцов.
– Ты меня, конечно, прости, Василич, – сказал Прохор, – но вот гляжу я на тебя и никак, братец ты мой, в толк не возьму: что это ты все в китрадку списываешь?
Кольцов улыбнулся.
– Нет, ты не смейся, Василич, ты мне лучше скажи… а то я как бы задумываться не начал, я тогда скучный делаюсь, беда…
– Ну ладно… – Кольцов раскрыл тетрадку и как-то чудно, нараспев, как молитву, начал: – Соловьем залетным юность пролетела, волной в непогоду радость прошумела… Пора золотая была да сокрылась, сила молодая с телом износилась…
Прохор слушал, глядя на Алексея, замирая от удивления, а тот все пел:
– От кручины-думы в сердце кровь застыла… Что любил, как душу, и та изменила. Как былинку, ветер молодца шатает, зима лицо знобит, солнце сожигает… До поры до время всем я весь изжился, и кафтан мой синий с плеч долой свалился…
Кольцов замолчал, у него задрожали губы, голос пресекся. Он сунул за пазуху тетрадку, встал и шибко пошел прочь от костра.
Прохор улегся, но сон не шел к нему. Далекая песня, как весенний протяжный ветер, звенела в ушах: «До поры до время всем я износился, и кафтан мой синий… с плеч… долой свалился»…
Кольцов так и не вернулся к костру, и Прохор, не дождавшись его, заснул.
А днем снова ехали по выжженной яростным солнцем степи, снова Пантелей балагурил, рассказывал про Альпийский поход, про чужие страны, и как он, Пантелей, тогда красивый, молодой солдат, присушил в городе Сенготаре одну немку-лавочницу, да так, что, когда пошли с полком из этого Сенготара, она верст пять все за ним бежала, в голос голосила, чтоб взял ее с собой.
Кольцов с видимым интересом слушал Пантелеевы россказни, братья Ельшины, по обыкновению, молчали. А у Прохора как засела с ночи в голове песня, так и звенела, звенела… И как этой печальной степи, так и песне конца не виделось.

Уголовный роман замечательных воронежских писателей В. Кораблинова и Ю. Гончарова.«… Вскоре им попались навстречу ребятишки. Они шли с мешком – собирать желуди для свиней, но, увидев пойманное чудовище, позабыли про дело и побежали следом. Затем к шествию присоединились какие-то женщины, возвращавшиеся из магазина в лесной поселок, затем совхозные лесорубы, Сигизмунд с Ермолаем и Дуськой, – словом, при входе в село Жорка и его полонянин были окружены уже довольно многолюдной толпой, изумленно и злобно разглядывавшей дикого человека, как все решили, убийцу учителя Извалова.

«…– Не просто пожар, не просто! Это явный поджог, чтобы замаскировать убийство! Погиб Афанасий Трифоныч Мязин…– Кто?! – Костя сбросил с себя простыню и сел на диване.– Мязин, изобретатель…– Что ты говоришь? Не может быть! – вскричал Костя, хотя постоянно твердил, что такую фразу следователь должен забыть: возможно все, даже самое невероятное, фантастическое.– Представь! И как тонко подстроено! Выглядит совсем как несчастный случай – будто бы дом загорелся по вине самого Мязина, изнутри, а он не смог выбраться, задохнулся в дыму.
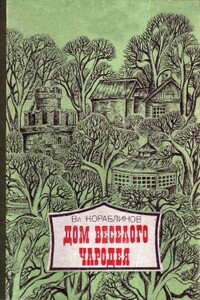
«… Сколько же было отпущено этому человеку!Шумными овациями его встречали в Париже, в Берлине, в Мадриде, в Токио. Его портреты – самые разнообразные – в ярких клоунских блестках, в легких костюмах из чесучи, в строгом сюртуке со снежно-белым пластроном, с массой орденских звезд (бухарского эмира, персидская, французская Академии искусств), с россыпью медалей и жетонов на лацканах… В гриме, а чаще (последние годы исключительно) без грима: открытое смеющееся смуглое лицо, точеный, с горбинкой нос, темные шелковистые усы с изящнейшими колечками, небрежно взбитая над прекрасным лбом прическа…Тысячи самых забавных, невероятных историй – легенд, анекдотов, пестрые столбцы газетной трескотни – всюду, где бы ни появлялся, неизменно сопровождали его триумфальное шествие, увеличивали и без того огромную славу «короля смеха».
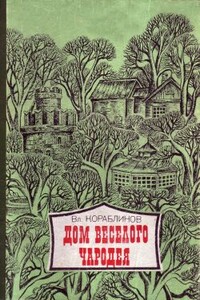
«… Валиади глядел в черноту осенней ночи, думал.Итак?Итак, что же будет дальше? Лизе станет лучше, и тогда… Но станет ли – вот вопрос. Сегодня, копая яму, упаковывая картины, он то и дело заглядывал к ней, и все было то же: короткая утренняя передышка сменилась снова жестоким жаром.Так есть ли смысл ждать улучшения? Разумно ли откладывать отъезд? Что толку в Лизином выздоровлении, если город к тому времени будет сдан, если они окажутся в неволе? А ведь спокойно-то рассудить – не все ли равно, лежать Лизе дома или в вагоне? Ну, разумеется, там и духота, и тряска, и сквозняки – все это очень плохо, но… рабство-то ведь еще хуже! Конечно, немцы, возможно, и не причинят ему зла: как-никак, он художник, кюнстлер, так сказать… «Экой дурень! – тут же обругал себя Валиади. – Ведь придумал же: кюнстлер! Никакой ты, брат, не кюнстлер, ты – русский художник, и этого забывать не следует ни при каких, пусть даже самых тяжелых, обстоятельствах!»Итак? …»Повесть также издавалась под названием «Русский художник».
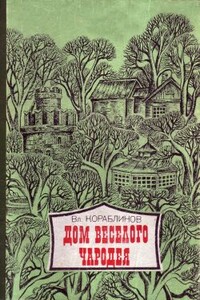
«… Наконец загремела щеколда, дверь распахнулась. Кутаясь в старенький серый платок, перед Мочаловым стояла довольно высокая, худощавая женщина. На сероватом, нездоровом лице резко чернели неаккуратно подведенные брови. Из-под платка выбивались, видно еще не причесанные, черные волосы. Синяя бархотка на белой худенькой шее должна была придать женщине вид кокетливой игривости. Болезненность и страдание провели множество тонких, как надтреснутое стекло, морщинок возле рта, на щеках. Все в ней было жалко и нехорошо.
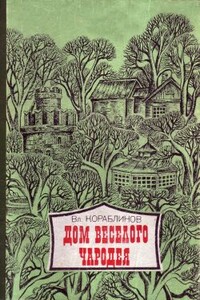
«… Со стародавних времен прижился у нас такой неписаный закон, что гениям все дозволено. Это, мол, личности исключительные, у них и психика особенная, и в силу этой «особенной» психики им и надлежит прощать то, что другим ни в коем случае не прощается.Когда иной раз заспорят на эту тему, то защитники неприкосновенности гениев обязательно приводят в пример анекдоты из жизни разных знаменитых людей. Очень любопытно, что большая часть подобных анекдотов связана с пьяными похождениями знаменитостей или какими-нибудь эксцентричными поступками, зачастую граничащими с обыкновенным хулиганством.И вот мне вспоминается одна простенькая история, в которой, правда, нет гениев в общепринятом смысле, а все обыкновенные люди.

В романе А. Савеличева «Забереги» изображены события военного времени, нелегкий труд в тылу. Автор рассказывает о вологодской деревне в те тяжелые годы, о беженцах из Карелии и Белоруссии, нашедших надежный приют у русских крестьян.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Василий Журавлев-Печорский пишет о Севере, о природе, о рыбаках, охотниках — людях, живущих, как принято говорить, в единстве с природой. В настоящую книгу вошли повести «Летят голубаны», «Пути-дороги, Черныш», «Здравствуй, Синегория», «Федькины угодья», «Птицы возвращаются домой». Эта книга о моральных ценностях, о северной земле, ее людях, богатствах природы. Она поможет читателям узнать Север и усвоить черты бережного, совестливого отношения к природе.
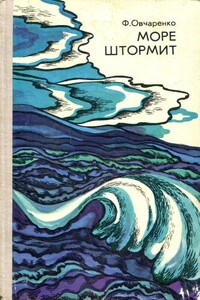
В книгу известного журналиста, комсомольского организатора, прошедшего путь редактора молодежной свердловской газеты «На смену!», заместителя главного редактора «Комсомольской правды», инструктора ЦК КПСС, главного редактора журнала «Молодая гвардия», включены документальная повесть и рассказы о духовной преемственности различных поколений нашего общества, — поколений бойцов, о высокой гражданственности нашей молодежи. Книга посвящена 60-летию ВЛКСМ.
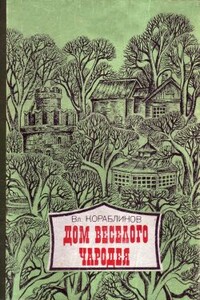
«… Но среди девичьей пестроты одна сразу же привлекла его внимание: скромна, молчалива, и ведь не красавица, а взглянешь – и глаз не оторвешь. Она не ахала, не жеманничала, не докучала просьбами черкнуть в альбом. Как-то завязался разговор о поэзии, девицы восторгались любимыми стихотворцами: были названы имена Бенедиктова, Кукольника, Жуковского.Она сказала:– Некрасов…– Ох, эта Натали! – возмущенно защебетали девицы. – Вечно не как все, с какими-то выдумками… Какая же это поэзия – Некрасов!– Браво! – воскликнул Никитин. – Браво, Наталья Антоновна! Я рад, что наши с вами вкусы совпадают…Она взглянула на него и улыбнулась.
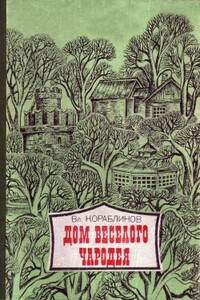
«… После чая он повел Ивана Саввича показывать свои новые акварели. Ему особенно цветы удавались, и то, что увидел Никитин, было действительно недурно. Особенно скромный букетик подснежников в глиняной карачунской махотке.Затем неугомонный старик потащил гостя в сад, в бело-розовый бурун цветущих деревьев. Там была тишина, жужжанье пчел, прозрачный переклик иволги.Садовник, щуплый старичок с розовым личиком купидона, вытянулся перед господами и неожиданно густым басом гаркнул:– Здррравия жалаим!– Ну что, служба, – спросил Михайлов, – как прикидываешь, убережем цвет-то? Что-то зори сумнительны.– Это верно, – согласился купидон, – зори сумнительные… Нонче чагу станем жечь, авось пронесет господь.– Боже, как хорошо! – прошептал Никитин.– Это что, вот поближе к вечеру соловьев послушаем… Их тут у нас тьма темная! …».
