Черный - [64]
Ceppari Ridolfi (Maria A.), Turrini (Patrizia). Il mulino delle vanità. Lusso e cerimonie nella Siena medievale. Sienne, 1996.
Descamps-Lequime (Sophie), éd. Couleur et peinture dans le monde grec antique, Paris. 2004.
Dumézil (Georges). Albati, russati, virides // Rituels indo-européens à Rome. Paris, 1954. P. 45–61.
Frodl-Kraft (Eva). Die Farbsprache der gotischen Malerei. Ein Entwurf // Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte. T. XXX–XXXI. 1977–1978. S. 89–178.
Haupt (Gottfried). Die Farbensymbolik in der sakralen Kunst des abendländischen Mittelalters. Leipzig; Dresden, 1941.
Istituto storico lucchese. Il colore nel Medioevo. Arte, simbolo, tecnica. Atti delle Giornate di studi. Lucques, 1996–1998. 2 vol.
L’Église et la couleur des origines à la Réforme // Bibliothèque de l’École des chartes. T. 147. 1989. P. 203–230.
Luzzatto (Lia), Pompas (Renata). Il significato dei colori nelle civiltà antiche. Milan, 1988.
Pastoureau (Michel). Figures et couleurs. Études sur la symbolique et la sensibilité médiévales. Paris, 1986.
Rouveret (Agnès). Histoire et imaginaire de la peinture ancienne. Paris; Rome, 1989.
Rouveret (Agnès), Dubel (Sandrine), Naas (Valérie), éds. Couleurs et matières dans l’Antiquité. Textes, techniques et pratiques. Paris, 2006.
Sicile, héraut d’armes du XVe siècle. Le Blason des couleurs en armes, livrées et devises / H. Cocheris, éd. Paris, 1857.
Tiverios (M.A.), Tsiafakis (D.), éds. The Role of Color in Ancient Greek Art and Architecture (700–31 B.C.). Thessalonique, 2002.
Villard (Laurence), éd. Couleur et vision dans l’Antiquité classique. Rouen, 2002.
Voir les couleurs au XIIIe siècle // Micrologus. Nature, Science and Medieval Societies. Vol. VI (View and Vision in the Middle Ages). 1998. T. II. P. 147–165.
Birren (Faber). Selling Color to People. New York, 1956.
Brino (Giovanni), Rosso (Franco). Colore e città. Il piano del colore di Torino, 1800–1850. Milan, 1980.
La couleur en noir et blanc (XV>e– XVIII>e siècle) // Le Livre et l’Historien. Études offertes en l’honneur du Professeur Henri-Jean Martin. Genève, 1997. P. 197–213.
Laufer (Otto). Farbensymbolik im deutschen Volsbrauch. Hambourg, 1948.
Lenclos (Jean-Philippe et Dominique). Les Couleurs de la France. Maisons et paysages. Paris, 1982.
Les Couleurs de l’Europe. Géographie de la couleur. Paris, 1995.
Noël (Benoît). L’Histoire du cinéma couleur. Croissy-sur-Seine, 1995.
Pastoureau (Michel). La Réforme et la couleur // Bulletin de la Société d’histoire du Protestantisme français. T. 138. Juill. – sept. 1992. P. 323–342.
André (Jacques). Étude sur les termes de couleurs dans la langue latine. Paris, 1949.
Brault (Gerard J.). Early Blazon. Heraldic Terminology in the XIIth and XIIIth Centuries, with Special Reference to Arthurian Literature. Oxford, 1972.
Crosland (M.P.). Historical Studies in the Language of Chemistery. London, 1962.
Giacolone Ramat (Anna). Colori germanici nel mondo romanzo // Atti e memorie dell’Academia Toscana di scienze e lettere La Colombaria (Firenze). Vol. 32. 1967. P. 105–211.
Gloth (H.). Das Spiel von den sieben Farben. Königsberg, 1902.
Grossmann (Maria). Colori e lessico: studi sulla struttura semantica degli aggetivi di colore in catalano, castigliano, italiano, romano, latino ed ungherese. Tübingen, 1988.
Jacobson-Widding (Anita). Red-White-Black, as a Mode of Thought. Stockholm, 1979.
Kantor (Sofia). Blanc et noir dans l’épique française et espagnole: dénotation et connotation // Studi medievali. T. XXV. 1984. P. 145–199.
Kristol (Andres M.). Color. Les Langues romanes devant le phénomène de la couleur. Berne, 1978.
Magnus (Hugo). Histoire de l’évolution du sens des couleurs. Paris, 1878.
Meunier (Annie). Quelques remarques sur les adjectifs de couleur // Annales de l’Université de Toulouse. Vol. 11/5. 1975. P. 37–62.
Mollard-Desfour (Annie). Le Dictionnaire des mots et expressions de couleur. Le noir. Paris, 2005.
Ott (André). Études sur les couleurs en vieux français. Paris, 1899.
Schäfer (Barbara). Die Semantik der Farbadjektive im Altfranzösischen. Tübingen, 1987.
Wackernagel (Wilhelm). Die Farben– und Blumensprache des Mittelalters // Abhandlungen zur deutschen Altertumskunde und Kunstgeschichte. Leipzig, 1872. S. 143–240.
Wierzbicka (Anna). The Meaning of Color Terms: Cromatology and Culture // Cognitive Linguistics. Vol. I/1. 1990. P, 99–150.
Brunello (Franco). L’arte della tintura nella storia dell’umanita. Vicenza, 1968.
–. Arti e mestieri a Venezia nel medioevo e nel Rinascimento. Vicenza, 1980.
Cardon (Dominique), Du Châtenet (Gaëtan). Guide des teintures naturelles. Neuchâtel; Paris, 1990.
Chevreul (Michel Eugène). Leçons de chimie appliquées à la teinture. Paris, 1829.
Edelstein (S.M.), Borghetty (H.C.). The «Plictho» of Giovan Ventura Rosetti. London; Cambridge (Mass.), 1969.
Gerschel (Lucien). Couleurs et teintures chez divers peuples indo-européens // Annales ESC. 1966. P. 608–663.
Hellot (Jean). L’Art de la teinture des laines et des étoffes de laine en grand et petit teint. Paris, 1750.
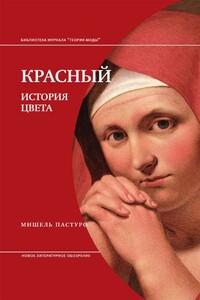
Красный» — четвертая книга М. Пастуро из масштабной истории цвета в западноевропейских обществах («Синий», «Черный», «Зеленый» уже были изданы «Новым литературным обозрением»). Благородный и величественный, полный жизни, энергичный и даже агрессивный, красный был первым цветом, который человек научился изготавливать и разделять на оттенки. До сравнительно недавнего времени именно он оставался наиболее востребованным и занимал самое высокое положение в цветовой иерархии. Почему же считается, что красное вино бодрит больше, чем белое? Красное мясо питательнее? Красная помада лучше других оттенков украшает женщину? Красные автомобили — вспомним «феррари» и «мазерати» — быстрее остальных, а в спорте, как гласит легенда, игроки в красных майках морально подавляют противников, поэтому их команда реже проигрывает? Французский историк М.

Почему общества эпохи Античности и раннего Средневековья относились к синему цвету с полным равнодушием? Почему начиная с XII века он постепенно набирает популярность во всех областях жизни, а синие тона в одежде и в бытовой культуре становятся желанными и престижными, значительно превосходя зеленые и красные? Исследование французского историка посвящено осмыслению истории отношений европейцев с синим цветом, таящей в себе немало загадок и неожиданностей. Из этой книги читатель узнает, какие социальные, моральные, художественные и религиозные ценности были связаны с ним в разное время, а также каковы его перспективы в будущем.

Уже название этой книги звучит интригующе: неужели у полосок может быть своя история? Мишель Пастуро не только утвердительно отвечает на этот вопрос, но и доказывает, что история эта полна самыми невероятными событиями. Ученый прослеживает историю полосок и полосатых тканей вплоть до конца XX века и показывает, как каждая эпоха порождала новые практики и культурные коды, как постоянно усложнялись системы значений, связанных с полосками, как в материальном, так и в символическом плане. Так, во времена Средневековья одежда в полосу воспринималась как нечто низкопробное, возмутительное, а то и просто дьявольское.

Исследование является продолжением масштабного проекта французского историка Мишеля Пастуро, посвященного написанию истории цвета в западноевропейских обществах, от Древнего Рима до XVIII века. Начав с престижного синего и продолжив противоречивым черным, автор обратился к дешифровке зеленого. Вплоть до XIX столетия этот цвет был одним из самых сложных в производстве и закреплении: химически непрочный, он в течение долгих веков ассоциировался со всем изменчивым, недолговечным, мимолетным: детством, любовью, надеждой, удачей, игрой, случаем, деньгами.

Французский историк Мишель Пастуро продолжает свой масштабный проект, посвященный истории цвета в западноевропейских обществах от Древнего Рима до наших дней. В издательстве «НЛО» уже выходили книги «Синий», «Черный», «Красный» и «Зеленый», а также «Дьявольская материя. История полосок и полосатых тканей». Новая книга посвящена желтому цвету, который мало присутствует в повседневной жизни современной Европы и скудно представлен в официальной символике. Однако так было не всегда. Люди прошлого видели в нем священный цвет – цвет света, тепла, богатства и процветания.
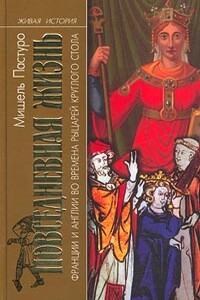
Книга известного современного французского историка рассказывает о повседневной жизни в Англии и Франции во второй половине XII – первой трети XIII века – «сердцевине западного Средневековья». Именно тогда правили Генрих Плантагенет и Ричард Львиное Сердце, Людовик VII и Филипп Август, именно тогда совершались великие подвиги и слагались романы о легендарном короле бриттов Артуре и приключениях рыцарей Круглого стола. Доблестные Ланселот и Персеваль, королева Геньевра и бесстрашный Говен, а также другие герои произведений «Артурианы» стали образцами для рыцарей и их дам в XII—XIII веках.
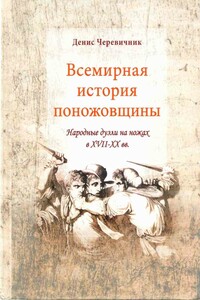
Вниманию читателей предлагается первое в своём роде фундаментальное исследование культуры народных дуэлей. Опираясь на богатейший фактологический материал, автор рассматривает традиции поединков на ножах в странах Европы и Америки, окружавшие эти дуэли ритуалы и кодексы чести. Читатель узнает, какое отношение к дуэлям на ножах имеют танго, фламенко и музыка фаду, как финский нож — легендарная «финка» попал в Россию, а также кто и когда создал ему леденящую душу репутацию, как получил свои шрамы Аль Капоне, почему дело Джека Потрошителя вызвало такой резонанс и многое, многое другое.
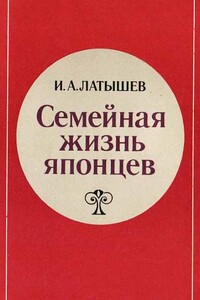
Книга посвящена исследованию семейных проблем современной Японии. Большое внимание уделяется общей характеристике перемен в семейном быту японцев. Подробно анализируются практика помолвок, условия вступления в брак, а также взаимоотношения мужей и жен в японских семьях. Существенное место в книге занимают проблемы, связанные с воспитанием и образованием детей и духовным разрывом между родителями и детьми, который все более заметно ощущается в современной Японии. Рассматриваются тенденции во взаимоотношениях японцев с престарелыми родителями, с родственниками и соседями.
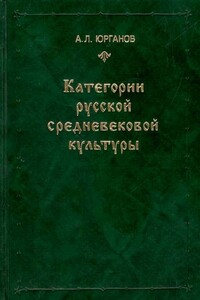
В монографии изучается культура как смыслополагание человека. Выделяются основные категории — самоосновы этого смыслополагания, которые позволяют увидеть своеобразный и неповторимый мир русского средневекового человека. Книга рассчитана на историков-профессионалов, студентов старших курсов гуманитарных факультетов институтов и университетов, а также на учителей средних специальных заведений и всех, кто специально интересуется культурным прошлым нашей Родины.

Книга посвящена исследованию исторической, литературной и иконографической традициям изображения мусульман в эпоху крестовых походов. В ней выявляются общие для этих традиций знаки инаковости и изучается эволюция представлений о мусульманах в течение XII–XIII вв. Особое внимание уделяется нарративным приемам, с помощью которых средневековые авторы создают образ Другого. Le present livre est consacré à l'analyse des traditions historique, littéraire et iconographique qui ont participé à la formation de l’image des musulmans à l’époque des croisades.

Пьер Видаль-Накэ (род. в 1930 г.) - один из самых крупных французских историков, автор свыше двадцати книг по античной и современной истории. Он стал одним из первых, кто ввел структурный анализ в изучение древнегреческой истории и наглядно показал, что категории воображаемого иногда более весомы, чем иллюзии реальности. `Объект моего исследования, - пишет он, - не миф сам по себе, как часто думают, а миф, находящийся на стыке мышления и общества и, таким образом, помогающий историку их понять и проанализировать`. В качестве центрального объекта исследований историк выбрал проблему перехода во взрослую военную службу афинских и спартанских юношей.

«Палли-палли» переводится с корейского как «Быстро-быстро» или «Давай-давай!», «Поторапливайся!», «Не тормози!», «Come on!». Жители Южной Кореи не только самые активные охотники за трендами, при этом они еще умеют по-настоящему наслаждаться жизнью: получая удовольствие от еды, восхищаясь красотой и… относясь ко всему с иронией. И еще Корея находится в топе стран с самой высокой продолжительностью жизни. Одним словом, у этих ребят, полных бодрости духа и поразительных традиций, есть чему поучиться. Психолог Лилия Илюшина, которая прожила в Южной Корее не один год, не только описывает особенности корейского характера, но и предлагает читателю использовать полезный опыт на практике.
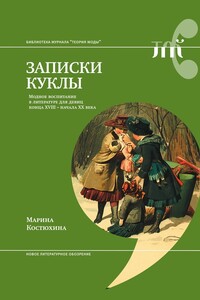
Монография посвящена исследованию литературной репрезентации модной куклы в российских изданиях конца XVIII – начала XX века, ориентированных на женское воспитание. Среди значимых тем – шитье и рукоделие, культура одежды и контроль за телом, модное воспитание и будущее материнство. Наиболее полно регистр гендерных тем представлен в многочисленных текстах, изданных в формате «записок», «дневников» и «переписок» кукол. К ним примыкает разнообразная беллетристическая литература, посвященная игре с куклой.

Сборник включает в себя эссе, посвященные взаимоотношениям моды и искусства. В XX веке, когда связи между модой и искусством становились все более тесными, стало очевидно, что считать ее не очень серьезной сферой культуры, не способной соперничать с высокими стандартами искусства, было бы слишком легкомысленно. Начиная с первых десятилетий прошлого столетия, именно мода играла центральную роль в популяризации искусства, причем это отнюдь не подразумевало оскорбительного для искусства снижения эстетической ценности в ответ на запрос массового потребителя; речь шла и идет о поиске новых возможностей для искусства, о расширении его аудитории, с чем, в частности, связан бум музейных проектов в области моды.

Мода – не только история костюма, сезонные тенденции или эволюция стилей. Это еще и феномен, который нуждается в особом описательном языке. Данный язык складывается из «словаря» глянцевых журналов и пресс-релизов, из профессионального словаря «производителей» моды, а также из образов, встречающихся в древних мифах и старинных сказках. Эти образы почти всегда окружены тайной. Что такое диктатура гламура, что общего между книгой рецептов, глянцевым журналом и жертвоприношением, между подиумным показом и священным ритуалом, почему пряхи, портные и башмачники в сказках похожи на колдунов и магов? Попытка ответить на эти вопросы – в книге «Поэтика моды» журналиста, культуролога, кандидата философских наук Инны Осиновской.

Исследование доктора исторических наук Наталии Лебиной посвящено гендерному фону хрущевских реформ, то есть взаимоотношениям мужчин и женщин в период частичного разрушения тоталитарных моделей брачно-семейных отношений, отцовства и материнства, сексуального поведения. В центре внимания – пересечения интимной и публичной сферы: как директивы власти сочетались с кинематографом и литературой в своем воздействии на частную жизнь, почему и когда повседневность с готовностью откликалась на законодательные инициативы, как язык реагировал на социальные изменения, наконец, что такое феномен свободы, одобренной сверху и возникшей на фоне этакратической модели устройства жизни.