Черный бор - [2]
О достоинствах «Лорина» выше были приведены слова И. А. Гончарова. Другой роман Валуева, «Княжна Татьяна», пожалуй, по своим литературным качествам превосходит «Лорина». В нем нет длиннот, на которые указывал в «Лорине» Гончаров (кстати, «Княжна Татьяна» начинается с того, что главная героиня читает роман Гончарова «Обрыв» и перечитывает эпизод, где Вера с Райским спускаются с крутизны, а в беседке Веру ждет Марк), прекрасны описания зимней лунной петербургской ночи (21.VII) и охоты на медведя в Чудове (21.XVII), а сцена, когда граф Ксенин увидел княжну Татьяну Орловскую в церкви и отметил, что на ней лежит печать таинственности, просто превосходна.
И все же повести Валуева «У Покрова в Лёвшине» и «Черный Бор» — безусловно, лучшее из всего им написанного в прозе. В них присутствует простодушный и истинно русский лиризм. Жизнь провинциальной Москвы («У Покрова в Лёвшине») в семидесятых годах прошлого столетия описана живописно-сочно: здесь Москва и в пасхальные праздники (гл. II), и в будни (гл. I); этнографически точно изображен район Покровского и Денежного переулков (гл. I). Даже дом Снегиных можно, наверное, найти сейчас, опираясь на текст повести Валуева «Черный Бор», действие которой происходит в подмосковных помещичьих усадьбах. Сюжетная канва обеих повестей и характер отношений главных героев, Анатолия Леонина и Веры Снегиной («У Покрова в Лёвшине»), Бориса Печерина и Веры Сербиной, барона и баронессы Вальдбах («Черный Бор»), имеют черты большого сходства. Главная тема и в том, и в другом случае — чувство, проверяемое временем. Впрочем, Валуев утверждал в своих философских отступлениях: «Время и пространство — понятия довольно условные; <…> на деле совсем даже не существует ни пространства, ни времени; это только прирожденные нам формы мышления, и наш ум изобрел идею пространства для объяснения конкретности предметов, а идею времени — для объяснения последовательного порядка явлений и событий»[7].
В отличие от прозы поэзия Валуева начисто лишена бытовых элементов, она философична, религиозна. В основном, валуевские стихи под разными псевдонимами опубликованы в изданном им в 1884 году (СПб.) «Сборнике кратких благоговейных чтений на все дни года».
Было бы чрезмерным предлагать сегодняшнему читателю значительную выборку стихов Валуева, посему ограничимся обширными цитатами, позволяющими составить представление об их форме и содержании.
Стихи — вне времени и пространства — обращены к душе человеческой, одинаковой во все времена и везде, и к Богу — символу вечности и постоянства.
Величественно красив Христос в изображении Валуева:
Это — ночной лунный сон, пленительный и радостный, а вот другой — вечерний, закатный сон, слегка жутковатый:
Именно вера — по Валуеву, ее значение для человека первостепенно — спасает человека от страха смерти и небытия и не дает ему утонуть в океане вечности:
Человек, понимающий, что наш мир не единственный, а лишь один из многих, непоколебимо уверен в существовании Бога и высших сил:
И Валуев поет настоящий гимн Господу Богу, благодарственный гимн:
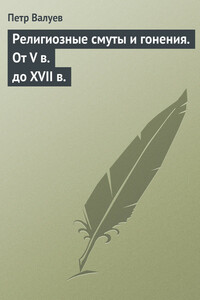
«Два разных потока приобретают в наше время возрастающее влияние в сфере мысли и жизни: научный, вступивший в борьбу с догматическими верованиями, и религиозный, направленный к их защите и к возбуждению интенсивности церковной жизни. С одной стороны, успехи опытных наук, разъяснив многое, что прежде казалось непостижимым, наводят на мысль, что самое понятие о непостижимом преимущественно опиралось на одно наше неведение и что нельзя более верить тому, чему мы до сих пор верили. С другой стороны, практика жизни и всюду всколыхавшаяся под нами гражданская почва возвращают во многих мысль к убеждению, что есть нечто, нам недоступное на земле, нечто высшее, нечто более нас охраняющее и обеспечивающее, чем все кодексы и все изобретения, нечто исключительно уясняющее тайну нашего бытия – и что это нечто именно заключается в области наших преемственных верований.

«– Опять за книгой, – сказала сердито Варвара Матвеевна, войдя в комнату, где Вера сидела у окна за пяльцами, но не вышивала, а держала в руках книгу и ее перелистывала. – Урывками мало подвинется работа, и ковер к сроку не поспеет.– Я недавно перестала вышивать, тетушка, – сказала молодая девушка, покраснев и встав со стула, на котором сидела. – Я целое утро работала и только хотела дать глазам поотдохнуть…».
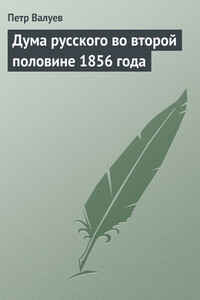
«Грустно! Я болен Севастополем! Лихорадочно думаю с вечера о предстоящем на следующее утро приходе почты. Лихорадочно ожидаю утром принесения газеты. Иду навстречу тому, кто их несет в мой кабинет; стараюсь получить их без свидетелей: досадно, если кто-нибудь помешает мне встретиться наедине с вестью из края, куда переносится, где наполовину живет моя мысль. Развертываю „Neue Preussische Zeitung“, где могу найти новейшие телеграфические известия. Торопливо пробегаю роковую страницу. Ничего! Если же есть что-нибудь, то не на радость.

«Четырнадцать лет тому назад покойный профессор Кавелин, стараясь определить задачи психологии, отозвался в следующих выражениях о тогдашнем направлении человеческой мысли, настроении духа и состоянии общественных нравов в христианском мире…».
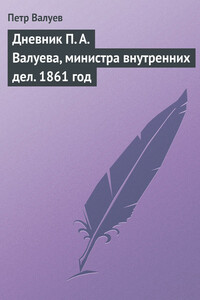
«1 января 1861 г. Утром во дворце. Заезжал два раза к гр. Блудову. Записывался по обыкновению в швейцарских разных дворцов. Все это при морозе в 17°.Обедал у Вяземских. Вечером дома…».
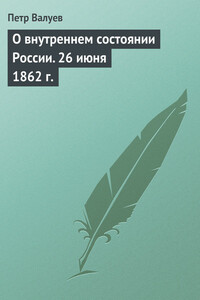
«Существует целый ряд тягостных фактов, на которые кажется невозможным не обратить серьезное внимание.I. Правительство находится в тягостной изоляции, внушающей серьезную тревогу всем, кто искренно предан императору и отечеству. Дворянство, или то, что принято называть этим именем, не понимает своих истинных интересов… раздроблено на множество различных течений, так что оно нигде в данный момент не представляет серьезной опоры…».
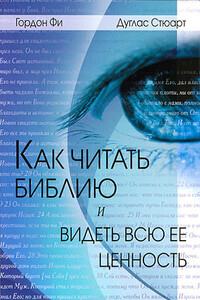
Глубокое понимание Библии вовсе не удел избранных – библеистов или особо одаренных людей. Библия доступна всем. Это значит, то ее может читать и понимать любой, от домохозяйки до преподавателя семинарии. Мы предлагаем вам углубиться в чтение библейских текстов под руководством авторитетных богословов, чтобы открыть для себя всю красоту и ценность Писания и увидеть, как оно связано с вашей жизнью в XXI веке. Предлагаемая вашему вниманию книга – по сути учебное пособие, призванное помочь всем желающим научиться правильно читать и толковать Библию.
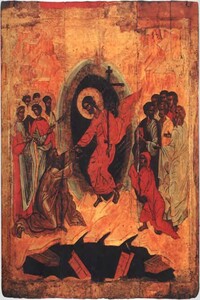
Франсуа Брюн родился в 1931 году в г. Ур (Eure). После получения степени бакалавра по латинскому и греческому языкам и классической филологии проходит дополнительное 4-х летнее обучение и получает в Сорбонне диплом по специальности «латинский и греческий языки».После шестилетнего обучения в Католическом Институте в Париже и университете Тюбингена и изучения древних языков (еврейского, иероглифического египетского и ассиро-вавилонского) получает приглашение остаться преподавать в Католическом Институте и в 1960 году принимает духовный сан.В 1964 году Франсуа Брюн получает лицензиат по Священному Писанию в Библейском Институте в Риме.
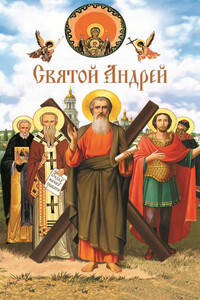
Святых, носящих имя Андрей, в жизни Русской Православной Церкви очень много. Один из них – святой апостол Андрей Первозванный, который был со Спасителем всё время Его земного служения и проповеди. Очень любят и чтут в народе ещё одного святого, наречённого именем Андрей. Это святой благоверный князь Андрей Боголюбский (сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха). Его недаром назвали Боголюбским – всем сердцем он возлюбил Господа ещё с юных лет. Андрей Боголюбский вместе с отцом строил Москву, возводил храмы во многих городах.
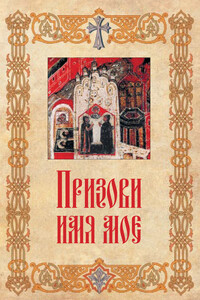
Сборник, впервые изданный Валаамским монастырем в 1938 году и ставший одним из лучших пособий по Иисусовой молитве, наконец-то переиздан! Что такое молитва Иисусова? Что говорили святые отцы об этой молитве? Одинакова ли молитва в миру и в монастыре? Об этом и о многом другом размышляют в своих беседах мирской иерей и благочестивый инок—старец на страницах данного издания.По изданию Валаамского монастыря (Сердоболь, 1938).
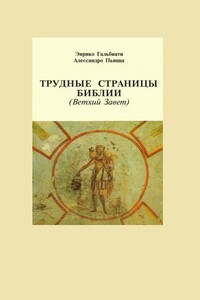
Как соотносятся между собой библейское повествование и научные данные о сотворении мира и человека? Какие события из жизни человечества стоят за рассказом о первородном грехе? Что необыкновенного в ветхозаветных чудесах? Так ли жесток ветхозаветный закон?Ответы на эти и многие другие вопросы можно, найти в книге известных итальянских библеистов Энрико Гальбиати и Алессандро Пьяцца, выдержавшей не одно издание в Италии и переведенной на многие языки.Адресована книга как специалистам — библеистам, богословам, религиоведам и священнослужителям, так и широкому кругу читателей, интересующихся религией и Книгой книг — Библией.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Л. Д. Зиновьева-Аннибал (1866–1907) — талантливая русская писательница, среди ее предков прадед А. С. Пушкина Ганнибал, ее муж — выдающийся поэт русского символизма Вячеслав Иванов. «Тридцать три урода» — первая в России повесть о лесбийской любви. Наиболее совершенное произведение писательницы — «Трагический зверинец».Для воссоздания атмосферы эпохи в книге дан развернутый комментарий.В России издается впервые.
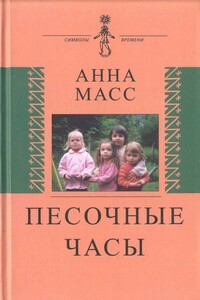
Автор книги — дочь известного драматурга Владимира Масса, писательница Анна Масс, автор многих книг и журнальных публикаций. В издательстве «Аграф» вышли сборники ее новелл «Вахтанговские дети» и «Писательские дачи».Новая книга Анны Масс автобиографична. Она о детстве и отрочестве, тесно связанных с Театром имени Вахтангова. О поколении «вахтанговских детей», которые жили рядом, много времени проводили вместе — в школе, во дворе, в арбатских переулках, в пионерском лагере — и сохранили дружбу на всю жизнь.Написана легким, изящным слогом.
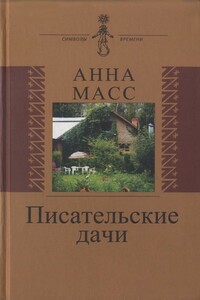
Автор книги — дочь известного драматурга Владимира Масса, писательница Анна Масс, автор 17 книг и многих журнальных публикаций.Ее новое произведение — о поселке писателей «Красная Пахра», в котором Анна Масс живет со времени его основания, о его обитателях, среди которых много известных людей (писателей, поэтов, художников, артистов).Анна Масс также долгое время работала в геофизических экспедициях в Калмыкии, Забайкалье, Башкирии, Якутии. На страницах книги часто появляются яркие зарисовки жизни геологов.
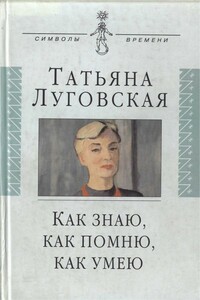
Книга знакомит с жизнью Т. А. Луговской (1909–1994), художницы и писательницы, сестры поэта В. Луговского. С юных лет она была знакома со многими поэтами и писателями — В. Маяковским, О. Мандельштамом, А. Ахматовой, П. Антокольским, А. Фадеевым, дружила с Е. Булгаковой и Ф. Раневской. Работа театрального художника сблизила ее с В. Татлиным, А. Тышлером, С. Лебедевой, Л. Малюгиным и другими. Она оставила повесть о детстве «Я помню», высоко оцененную В. Кавериным, яркие устные рассказы, записанные ее племянницей, письма драматургу Л. Малюгину, в которых присутствует атмосфера времени, эвакуация в Ташкент, воспоминания о В. Татлине, А. Ахматовой и других замечательных людях.