Черные вороны - [2]
– Какой тут шкандал? – возражал Ермил Иванович, задирая нос. – Никакого шкандалу нет… Всякому свое дорого. А вам до сей поры просто было жить в мире, когда вам удержу не было, – что хотели, то и делали на барской земле… Нет, голубчики! Вы уж оставьте… я этого не люблю!
– Ты бы хошь канав нарыл, что ли… – толковали мужики. – А то где ж тут уберечься… Гляди, как выгон-то нам нарезали… клином ведь прямо в твой выгон упирается…
– А мне что за дело! – огрызался Большухин, свысока посматривая на весь крестьянский мир. – Чего смотрели, когда надел брали! Так вас, дураков, и надо учить! А я из-за ваших глупостей рыть канав не стану… Пастухов нанимайте!
При всей осторожности, пелехинцы все-таки раза два-три в лето платили Ермилу Ивановичу за потраву… Как-то незаметно, исподволь, исподтишка Большухин забрал в руки пелехинцев, да таково ловко, что те и очнуться не успели, как все со своими детишками и животишками очутились у него в кулаке. Тому он отпустит в долг семян, тому хлеба даст до осени, тому денег выдаст под летнюю работу; на всем берет он проценты жидовские, а крестьяне ежатся, да идут к нему.
Невмоготу приходилось пелехинцам…
А у Ермила Ивановича, как на грех, была еще скверная привычка – самым серьезным образом дразнить мужика, тыкать ему глаза «волей».
– Я, брат, принуждать тебя не могу… – рассудительно, смиренным тоном говорил он, все крепче и крепче затягивая петлю на шее своей жертвы. – Ты, брат, человек вольный… Скажем, «по-божески», так… Соглашаешься – ладно, нет – и с богом, скатертью дорога – счастливый путь! Неволить тебя не могу…
– Это что и говорить… – соглашается мужик, попавший в его сети, в самом деле как бы признавая, что он «волен» сам удавиться или предоставить удавить себя Ермилу Ивановичу или кому-нибудь другому.
И Ермил Иванович своими «божескими» разговорами и поддразниванием иногда, бывало, до того доймет мужика, что даже в пот его вгонит.
– Эх, ну тебя!.. Душу, душу-то вымотал ты у меня… – с укоризной иной раз скажет мужик.
– Чем же это, голубчик, я тебе душу вымотал? – простодушно спрашивает Ермил Иванович, щуря, как кот, свои маслянистые глазки. – Я тебе привожу настоящие резоны, как есть…
– Резоны… – с затаенной злобой бормочет мужик, неистово почесывая затылок. – Резоны… Понимаешь: жрать нечего, хлебушка нет… а ты – про «волю»!.. Резоны!..
В конце концов всегда почти выходило так, что мужик живьем давался Ермилу Ивановичу. И по правде сказать, у Большухина силы было не меньше, чем прежде у барина, только обличьем бог его обидел, да почету барского ему не хватало. Хотя он был и силен, а все-таки – только «Большухин»… так же как и сударушка его, Пелагея Филипповна, хоть и бела была, и городское платье носила, а все-таки была только – девка подзаборная…
Не раз также Ермил Иванович принимался пугать пелехинцев «машиной»…
– Вы со мной не больно-то куражьтесь, соколики! – говорил он при случае. – Я вот посмотрю-посмотрю, да заведу машину и буду все машиной делать, а вас всех к лешему!
И каждый раз, когда мужики чем-нибудь досаждали ему, он стращал их призраком машины.
– Вот ужо погодите, голубчики, выпишу машину… белугой заревете вы у меня…
Если немножко что, сейчас: «Вот ужо машину выпишу» и т. д. Раз один мужик – человек очень сдержанный и молчаливый – даже осерчал на него, не выдержал его постоянных застращиваний и в отчаянии крикнул ему:
– А ну тя к черту! Выписывай, что хошь… Надоел ты нам со своей машиной… «Выпишу, выпишу…» А что же она у тебя о сю пору не едет, эта самая машина, ну?..
Большухин плюнул и отошел…
С купцами старого уклада у него «по внешности» не было почти ничего общего, за исключением разве субботних хождений в баню. В речах, в обхождении и вообще в образе жизни Большухин как-то выбился наполовину из купеческой колеи, хотя в то же время ни в какую другую колею не попал. Сапоги, например, он носил городские, опойковые, но штаны все-таки заправлял в сапоги; русскую ситцевую рубаху «косоворотку» любил носить навыпуск, подтягивая ее пояском, а сверх рубахи надевал жилет, на котором красовалась серебряная часовая цепочка. Иногда, выезжая куда-нибудь в деревню, он при этом надевал еще сюртук. В город Большухин отправлялся в немецком платье, и это платье, по истине сказать, сидело на нем, как на корове седло. Волосы он носил длинные, а не стриг их в кружок по-мужицки; фуражку сдвигал на затылок.
Из числа немногих древних обычаев, которых придерживался Ермил Иванович, как я уже сказал, было еженедельное хождение в баню. Мытье происходило самым патриархальным образом. Парится, бывало, Ермил Иванович всласть, до того, что очумеет, и голый вывалится на крыльцо, весь красный, багровый, с приставшими к телу зелеными березовыми листочками, окруженный облаком белесоватого пара; в летнее время сядет на крыльцо или встанет у притолоки и кричит на весь двор, чтобы ему принесли квасу…
– Ой, пить хочу до смерти… А-ах, хорошо! – тяжело пыхтя и отдуваясь, стонет он сладострастно.
Если приказчика не случится дома, тащит ему квас Пелагея Филипповна или работница. А Ермил Иванович как ни в чем не бывало стоит, как малеванный истукан, прикрываясь только веником, вместо фигового листочка, и бессмысленно вылупив свои посоловевшие глаза…

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«…Вдруг ветер с такой силой ударил ее, что девочка невольно протянула руки вперед, чтобы не упасть, и кулак ее правой руки разжался на мгновение. Девочка остановилась и, наклонившись, начала что-то искать у себя под ногами. Наконец, она опустилась на колени и своими худенькими посиневшими ручонками стала шарить по сугробу. Через минуту пушистый снег уже покрывал ей голову, плечи и грудь, и девочка стала похожа на снежную статую с живым человеческим лицом. Она долго искала чего-то, долго рылась в снегу…».

«…Нежно, любовно звучала арфа в его руках. И стар и мал заслушивались ее. Даже жесткие, черствые люди, казалось, дотоле жившие на свете только для одного зла, на горе ближним и себе, приходили от нее в восторг и умиленье… В потемки самой порочной души арфа вносила свет и радость, раздувая искру божию, невидимо для людей тлевшую в них под пеплом всякой житейской мерзости…».

«…Однажды ночью бродил он под лесом, прислушиваясь и нюхая. И вдруг почуял он неподалеку запах падали. Конечно, падаль не то, что свежее мясцо, но за неимением лучшего и оно годится… Осторожно крадучись, озираясь, подходит волк и видит: лежит дохлая лошадь, худая, тощая, бока у нее впалые, – все ребра знать, – а голова почти совсем зарылась в снег…».

«…У обоих слепцов слух и осязание были тонко развиты, но у мальчика они были развиты лучше. Самый легкий, чуть слышный, скрадывающийся шорох не ускользал от его внимания, самый обыкновенный шум и стук пугали его, заставляли вздрагивать. Легкое веяние воздуха он чувствовал на своем лице так же хорошо, так же явственно, как мы чувствуем дуновение ветра…».

«…Старуха усмехнулась. Ринальд внимательно посмотрел на нее, на ее выпрямившийся стан и на серьезное лицо. И вдруг припомнились ему слышанные в детстве от матери песенки и сказки про добрых и злых духов, да про волшебниц; ожила в нем на мгновенье прежняя детская вера в чудеса, – сердце его ёкнуло и сильно забилось…».

Знаменитый писатель Глебов, оставив в Москве трёх своих любовниц, уезжает с четвёртой любовницей в Европу. В вагоне первого класса их ждёт упоительная ночь любви.

Он не был там с девятнадцати лет — не ехал, все откладывал. И теперь надо было воспользоваться единственным и последним случаем побывать на Старой улице, где она ждала его когда-то в осеннем саду, где в молодости с радостным испугом его встречал блеск ее ждущих глаз.
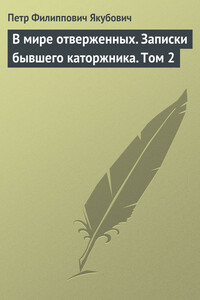
«…Следует прежде всего твердо помнить, что не безнравственность вообще, не порочность или жестокость приводят людей в тюрьму и каторгу, а лишь определенные и вполне доказанные нарушения существующих в стране законов. Однако всем нам известно (и профессору тем более), что, например, пятьдесят лет назад, во времена «Записок из Мертвого Дома», в России существовал закон, по которому один человек владел другим как вещью, как скотом, и нарушение последним этого закона нередко влекло за собой ссылку в Сибирь и даже каторжные работы.
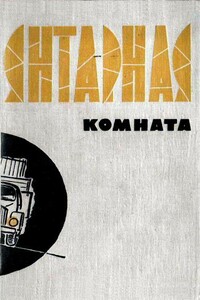
Романтические приключения в Южной Америке 1913 года.На ранчо «Каменный столб», расположившееся далеко от населенных мест, на границе Уругвая и Бразилии, приезжают гости: Роберт Найт, сбежавший из Порт-Станлея, пылкая голова, бродит в пампасах с невыясненной целью, сеньор Тэдвук Линсей, из Плимута, захотевший узнать степную жизнь, и Ретиан Дугби, местный уроженец, ныне журналист североамериканских газет. Их визит меняет скромную жизнь владельцев ранчо…
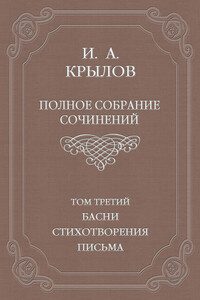
Настоящее издание Полного собрания сочинений великого русского писателя-баснописца Ивана Андреевича Крылова осуществляется по постановлению Совета Народных Комиссаров СССР от 15 июля 1944 г. При жизни И.А. Крылова собрания его сочинений не издавалось. Многие прозаические произведения, пьесы и стихотворения оставались затерянными в периодических изданиях конца XVIII века. Многократно печатались лишь сборники его басен. Было предпринято несколько попыток издать Полное собрание сочинений, однако достигнуть этой полноты не удавалось в силу ряда причин.Настоящее собрание сочинений Крылова включает все его художественные произведения, переводы и письма.
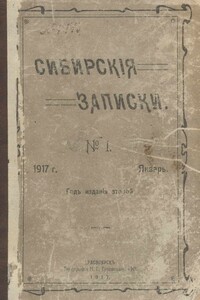
Рассказ о случайном столкновении зимой 1906 года в маленьком сибирском городке двух юношей-подпольщиков с офицером из свиты генерала – начальника карательной экспедиции.Журнал «Сибирские записки», I, 1917 г.