Черное солнце. Депрессия и меланхолия - [60]
Что является объектом прощения? Конечно, оскорбления, то есть любая моральная или физическая травма и, в конечном счете, сама смерть. Сексуальные прегрешения являются главной темой «Униженных и оскорбленных», они связаны со многими героинями Достоевского (Настасья Филипповна, Грушенька, Наташа…), а также отмечаются в мужских перверсиях (например, изнасилование несовершеннолетних Ставрогиным), представляя, таким образом, один из главных мотивов прощения. Однако абсолютным злом все равно остается смерть, поэтому, каково бы ни было наслаждение страданием и каковы бы ни были причины, приводящие героя Достоевского к границе самоубийства или убийства, Достоевский всегда безоговорочно осуждает смерть, то есть смерть, которую способно причинить человеческое существо. Кажется, что он не различает безумное убийство и убийство как нравственное наказание, затребованное человеческой справедливостью. Если бы он должен был провести различие между ними, он склонился бы к пытке и боли, которые, с точки зрения художника, посредством эротизации как будто «окультуривают» и гуманизируют убийство и насилие[166]. Зато он не прощает холодную, необратимую смерть, смерть в «чистом виде», осуществляемую гильотиной — она оказывается самой «ужасной мукой»: «Кто сказал, что человеческая природа в состоянии вынести это без сумасшествия?»[167] В самом деле, для осужденного на гильотину прощение невозможно. Лицо «приговоренного за минуту до удара гильотины, когда еще он на эшафоте стоит, пред тем как ложиться на эту доску»[168] напоминает князю Мышкину базельскую картину: «Об этой муке и об этом ужасе и Христос говорил».[169]
Сам Достоевский, осужденный на смерть, был помилован. Приобретает ли, с точки зрения Достоевского, прощение свое значение от красоты и справедливости, от этой трагедии, получившей развязку в самой последний момент?
Возможно ли, чтобы прощение, пришедшее после смерти, уже представленной, уже, если можно так выразиться, прожитой и по необходимости спровоцировавшей развитие взрывной чувствительности Достоевского, на самом деле сумело снять эту смерть — то есть изгладить ее и примирить осужденного с осуждающей властью? Несомненно, для того, чтобы возвращенная жизнь возобновилась и чтобы установился контакт с другими спасенными, требуется сильнейший порыв к примирению с властью[170], которой ты боишься быть покинутым. Порыв, под которым, однако же, зачастую таится неуспокоенная меланхолическая тревога субъекта, однажды уже умершего, хотя и воскрешенного чудесным образом… Поэтому в воображаемом писателя выстраивается система чередования неотвратимости страдания и вспышки прощения, так что два этих момента в своем вечном возвращении размечают все его произведения.
Драматическое воображаемое Достоевского и его разрываемые на части герои указывают скорее именно на сложность и даже невозможность этой любви-прощения. Видимо, наиболее концентрированное выражение этого смятения, вызванного необходимостью и невозможностью любви-прощения, мы находим в заметках писателя после смерти его первой жены Марии Дмитриевны: «Возлюбить человека, как самого себя, по заповеди Христовой, невозможно. Закон личности на земле связывает. Я препятствует».[171]
Искусственность прощения и воскресения, ставших, однако, для писателя императивом, взрывается в «Преступлении и наказании» (1866).
Раскольников описывает сам себя как грустного человека: «Слушай, Разумихин <…> я там все мои деньги отдал <…> мне так грустно, так грустно! точно женщине… право!»[172], а его собственная мать считает его меланхоликом: «Знаешь, Дуня, смотрела я на вас обоих, совершенный ты его портрет и не столько лицом, сколько душою: оба вы [Раскольников и его сестра Дуня] меланхолики, оба угрюмые и вспыльчивые, оба высокомерные и оба великодушные…»[173]
Как эта грусть превращается в преступление? Достоевский досконально исследует главный момент депрессивной динамики — колебание между Я и другим, проекция на Я ненависти к другому и, наоборот, обращение на другого обесценивания Я. Что идет первым — ненависть или обесценивание? Сформулированная Достоевским апология страдания позволяет предположить, как мы уже видели, что Достоевский отдает привилегию самоуничижению, обесцениванию самого себя, даже некоему мазохизму, развивающемуся под суровым взором рано сформировавшегося тиранического Сверх-Я. С этой точки зрения, преступление является защитной реакцией на депрессию — убийство другого защищает от самоубийства. «Теория» и преступный акт Раскольникова полностью подтверждают эту логику. Мрачный студент, который опускается до жизни бродяги, как мы помним, предлагает «деление людей на обыкновенных и необыкновенных» — первые служат для продолжения рода, тогда как вторые обладают «даром или талантом сказать в среде своей новое слово». «Второй разряд, все преступают закон, разрушители, или склонны к тому, судя по способностям»

Юлия Кристева и Филипп Соллерс — экстраординарная пара французских интеллектуалов XX века, объединившая вокруг себя многих знаменитых мыслителей своего времени; их концепции оказали немалое влияние на становление континентальной философии и на формирование современной европейской гуманитарной мысли. В диалогах Кристевой и Соллерса брак предстает как неисчерпаемый ресурс для взаимопомощи и партнерства, а также как поле для интеллектуальных состязаний. Дискуссия между супругами, которая длится вот уже несколько десятилетий, и легла в основу этой книги.
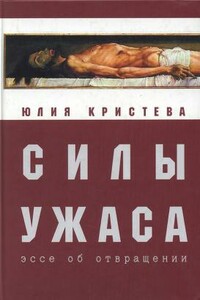
Книга одной из самых известных современных французских философов Юлии Кристевой «Силы ужаса: эссе об отвращении» (1982) посвящается темам материальной семиотики, материнского и любви, занимающим ключевое место в ее творчестве и оказавшим исключительное влияние на развитие феминистской теории и философии. В книге на материале творчества Ф. Селина анализируется, каким образом искоренение низменного, грязного, отвратительного выступает необходимым условием формирования человеческой субъективности и социальности, и насколько, в то же время, оказывается невозможным их окончательное устранение.Книга предназначена как для специалистов — философов, филологов, культурологов, так и для широкой читательской аудитории.http://fb2.traumlibrary.net.
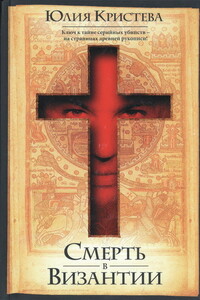
Восемь убийств потрясли маленький городок. Таинственный маньяк, которого пресса прозвала Чистильщиком, метит тела своих жертв знаком «бесконечность». По какому принципу он убивает? В чем смысл его «посланий»? Расследование ведут два блестящих интеллектуала — журналистка Стефани Делакур и комиссар Нортроп Рильски.Постепенно они приходят к шокирующему выводу: кровавые деяния Чистильщика каким-то образом связаны с одним из самых загадочных периодов мировой истории — падением Константинополя под натиском участников Первого крестового похода.Ключ к тайне происходящего следует искать на страницах знаменитой хроники, написанной византийской принцессой Анной Комниной…

В книге, название которой заимствовано у Аристотеля, представлен оригинальный анализ фигуры животного в философской традиции. Животность и феномены, к ней приравненные или с ней соприкасающиеся (такие, например, как бедность или безумие), служат в нашей культуре своего рода двойником или негативной моделью, сравнивая себя с которой человек определяет свою природу и сущность. Перед нами опыт не столько даже философской зоологии, сколько философской антропологии, отличающейся от классических антропологических и по умолчанию антропоцентричных учений тем, что обращается не к центру, в который помещает себя человек, уверенный в собственной исключительности, но к периферии и границам человеческого.

Опубликовано в журнале: «Звезда» 2017, №11 Михаил Эпштейн Эти размышления не претендуют на какую-либо научную строгость. Они субъективны, как и сама мораль, которая есть область не только личного долженствования, но и возмущенной совести. Эти заметки и продиктованы вопрошанием и недоумением по поводу таких казусов, когда морально ясные критерии добра и зла оказываются размытыми или даже перевернутыми.

Книга содержит три тома: «I — Материализм и диалектический метод», «II — Исторический материализм» и «III — Теория познания».Даёт неплохой базовый курс марксистской философии. Особенно интересена тем, что написана для иностранного, т. е. живущего в капиталистическом обществе читателя — тем самым является незаменимым на сегодняшний день пособием и для российского читателя.Источник книги находится по адресу https://priboy.online/dists/58b3315d4df2bf2eab5030f3Книга ёфицирована. О найденных ошибках, опечатках и прочие замечания сообщайте на [email protected].

Эстетика в кризисе. И потому особо нуждается в самопознании. В чем специфика эстетики как науки? В чем причина ее современного кризиса? Какова его предыстория? И какой возможен выход из него? На эти вопросы и пытается ответить данная работа доктора философских наук, профессора И.В.Малышева, ориентированная на специалистов: эстетиков, философов, культурологов.

Данное издание стало результатом применения новейшей методологии, разработанной представителями санкт-петербургской школы философии культуры. В монографии анализируются наиболее существенные последствия эпохи Просвещения. Авторы раскрывают механизмы включения в код глобализации прагматических установок, губительных для развития культуры. Отдельное внимание уделяется роли США и Запада в целом в процессах модернизации. Критический взгляд на нынешнее состояние основных социальных институтов современного мира указывает на неизбежность кардинальных трансформаций неустойчивого миропорядка.

Монография посвящена исследованию становления онтологической парадигмы трансгрессии в истории европейской и русской философии. Основное внимание в книге сосредоточено на учениях Г. В. Ф. Гегеля и Ф. Ницше как на основных источниках формирования нового типа философского мышления.Монография адресована философам, аспирантам, студентам и всем интересующимся проблемами современной онтологии.