Черное солнце. Депрессия и меланхолия - [57]
Точно так же у христианина Достоевского страдание — главный признак человечности — это мета зависимости человека от божественного Закона, а также его неустранимого отличия от этого закона. Единство связи и вины, верности и нарушения заложено в сам этический порядок, в котором человек Достоевского оказывается идиотом в силу собственной святости и тем, кто открывает истину благодаря собственной преступности.
Эта логика необходимой взаимозависимости закона и нарушения не может быть чуждой тому факту, что спусковым крючком для эпилептического припадка очень часто оказывается сильное противоречие между любовью и ненавистью, желанием другого и отвержением другого. Однако можно задаться вопросом, не является ли знаменитая амбивалентность героев Достоевского (которая привела Бахтинах[155] к постулату о «диалогизме» как основании всей его поэтики) его попыткой посредством соединения различных дискурсов и конфликтов персонажей представить саму эту не имеющую синтетического решения противоположность двух сил (положительной и отрицательной), свойственных влечению и желанию.
Однако, если бы символическая связь была порвана, наш Иов стал бы Кирилловым, террористом-самоубийцей. Мережковский не так уж неправ, когда видит в великом писателе предтечу русской революции[156]. Конечно, он ее боится, отвергает ее и стигматизирует, но именно ему известно ее скрытое будущее, совершаемое в душе его страдающего человека, готового предать смиренность Иова ради маниакальной экзальтации революционера, принимающего себя за Бога (такова, по Достоевскому, социалистическая вера атеистов). Нарциссизм депрессивного человека превращается в манию атеистического терроризма: Кириллов — человек без Бога, который занял Его место. Страдание завершается, чтобы могла утвердиться смерть — тогда не было ли страдание преградой, защищающей от самоубийства и смерти?
Можно вспомнить о наличии у Достоевского по крайней мере двух решений — в одинаковой степени фатальных — для страдания, оказывающегося последней завесой, за которой прячутся хаос и разрушение.
Кириллов убежден, что Бога нет, однако, будучи привязанным к инстанции Бога, он желает возвысить свободу человека до уровня абсолюта посредством главного свободного акта отрицания, которым, по его мнению, является самоубийство. Бога нет — я есть Бог — меня нет — Я убиваю себя: так выглядит парадоксальная логика этого отрицания отцовства или абсолютного божества, удерживаемого однако для того, чтобы я мог завладеть им.
Напротив, Раскольников, стоящий как будто в позиции маниакальной защиты от отчаяния, свою ненависть направляет не на себя, а на отрицаемого и принижаемого другого. Посредством своего вполне произвольного преступления, которое состоит в убийстве незначительной женщины, он разрывает свой христианский договор («Возлюби ближнего своего как самого себя»). Он отрицает свою любовь к первичному объекту (и словно бы утверждает: «Поскольку я не люблю мать, мой ближний ничего не значит, что позволяет мне уничтожить его безо всякого стеснения») и на основе этой предпосылки разрешает себе реализовать свою ненависть к среде и обществу, которые, как ему кажется, его преследуют.
Как известно, метафизическим смыслом такого поведения является нигилистское отрицание высшей ценности, которое также открывает неспособность символизировать, мыслить и принимать страдание. У Достоевского нигилизм вызывает бунт верующего против трансцендентального угнетения. Психоаналитик же обнаружит здесь по меньшей мере двусмысленную захваченность писателя как некоторыми формами маниакальной защиты от этого страдания, так и изысканной депрессией, культивируемой им в качестве необходимой и антиномической подкладки его письма. О том, что такая защита ничтожна, нам постоянно напоминает забвение морали, потеря смысла жизни, терроризм или пытки, столь часто встречающиеся в нашей современности. Сам писатель выбрал путь религиозной ортодоксии. Этот «обскурантизм», столь яростно разоблачаемый Фрейдом, в конечном счете оказывается вовсе не таким пагубным для культуры, как террорисгический нигилизм. Вместе с идеологией и по ту сторону от нее остается письмо — вечная болезненная битва за то, чтобы создать произведение, наполненное безымянными формами страсти к разрушению и хаосу.

Юлия Кристева и Филипп Соллерс — экстраординарная пара французских интеллектуалов XX века, объединившая вокруг себя многих знаменитых мыслителей своего времени; их концепции оказали немалое влияние на становление континентальной философии и на формирование современной европейской гуманитарной мысли. В диалогах Кристевой и Соллерса брак предстает как неисчерпаемый ресурс для взаимопомощи и партнерства, а также как поле для интеллектуальных состязаний. Дискуссия между супругами, которая длится вот уже несколько десятилетий, и легла в основу этой книги.
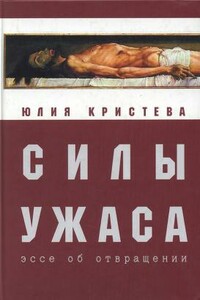
Книга одной из самых известных современных французских философов Юлии Кристевой «Силы ужаса: эссе об отвращении» (1982) посвящается темам материальной семиотики, материнского и любви, занимающим ключевое место в ее творчестве и оказавшим исключительное влияние на развитие феминистской теории и философии. В книге на материале творчества Ф. Селина анализируется, каким образом искоренение низменного, грязного, отвратительного выступает необходимым условием формирования человеческой субъективности и социальности, и насколько, в то же время, оказывается невозможным их окончательное устранение.Книга предназначена как для специалистов — философов, филологов, культурологов, так и для широкой читательской аудитории.http://fb2.traumlibrary.net.
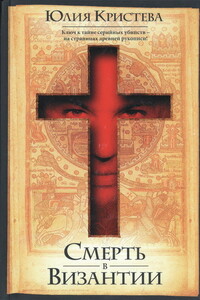
Восемь убийств потрясли маленький городок. Таинственный маньяк, которого пресса прозвала Чистильщиком, метит тела своих жертв знаком «бесконечность». По какому принципу он убивает? В чем смысл его «посланий»? Расследование ведут два блестящих интеллектуала — журналистка Стефани Делакур и комиссар Нортроп Рильски.Постепенно они приходят к шокирующему выводу: кровавые деяния Чистильщика каким-то образом связаны с одним из самых загадочных периодов мировой истории — падением Константинополя под натиском участников Первого крестового похода.Ключ к тайне происходящего следует искать на страницах знаменитой хроники, написанной византийской принцессой Анной Комниной…

В книге, название которой заимствовано у Аристотеля, представлен оригинальный анализ фигуры животного в философской традиции. Животность и феномены, к ней приравненные или с ней соприкасающиеся (такие, например, как бедность или безумие), служат в нашей культуре своего рода двойником или негативной моделью, сравнивая себя с которой человек определяет свою природу и сущность. Перед нами опыт не столько даже философской зоологии, сколько философской антропологии, отличающейся от классических антропологических и по умолчанию антропоцентричных учений тем, что обращается не к центру, в который помещает себя человек, уверенный в собственной исключительности, но к периферии и границам человеческого.

Опубликовано в журнале: «Звезда» 2017, №11 Михаил Эпштейн Эти размышления не претендуют на какую-либо научную строгость. Они субъективны, как и сама мораль, которая есть область не только личного долженствования, но и возмущенной совести. Эти заметки и продиктованы вопрошанием и недоумением по поводу таких казусов, когда морально ясные критерии добра и зла оказываются размытыми или даже перевернутыми.

Книга содержит три тома: «I — Материализм и диалектический метод», «II — Исторический материализм» и «III — Теория познания».Даёт неплохой базовый курс марксистской философии. Особенно интересена тем, что написана для иностранного, т. е. живущего в капиталистическом обществе читателя — тем самым является незаменимым на сегодняшний день пособием и для российского читателя.Источник книги находится по адресу https://priboy.online/dists/58b3315d4df2bf2eab5030f3Книга ёфицирована. О найденных ошибках, опечатках и прочие замечания сообщайте на [email protected].

Эстетика в кризисе. И потому особо нуждается в самопознании. В чем специфика эстетики как науки? В чем причина ее современного кризиса? Какова его предыстория? И какой возможен выход из него? На эти вопросы и пытается ответить данная работа доктора философских наук, профессора И.В.Малышева, ориентированная на специалистов: эстетиков, философов, культурологов.

Данное издание стало результатом применения новейшей методологии, разработанной представителями санкт-петербургской школы философии культуры. В монографии анализируются наиболее существенные последствия эпохи Просвещения. Авторы раскрывают механизмы включения в код глобализации прагматических установок, губительных для развития культуры. Отдельное внимание уделяется роли США и Запада в целом в процессах модернизации. Критический взгляд на нынешнее состояние основных социальных институтов современного мира указывает на неизбежность кардинальных трансформаций неустойчивого миропорядка.

Монография посвящена исследованию становления онтологической парадигмы трансгрессии в истории европейской и русской философии. Основное внимание в книге сосредоточено на учениях Г. В. Ф. Гегеля и Ф. Ницше как на основных источниках формирования нового типа философского мышления.Монография адресована философам, аспирантам, студентам и всем интересующимся проблемами современной онтологии.