Черная немочь - [2]
— Самовар скорее, Феня, да просила ли ты Марью Петровну монастырским или полынным?
— Всем потчивала, да изволит спесивиться.
— Подавай, подавай. Нет, Марья Петровна, в чужой монастырь со своим уставом не ходят. К тому же вы у нас редкая гостья: вы кушали чай на Святой в воскресенье после вечерни, а после того, кажись, и глаз не показывали.
— Помилуйте, батюшко, да в духов день мы гостили у вас долго и с сожителем.
— Виноват, помню, помню.
Между тем Марья Петровна говорила очень отрывисто, поглядывала исподлобья на свою хозяйку, — и сметливый хозяин тотчас догадался, что ей хочется открыться перед ним наедине, и повел ее за руку в другую комнату.
Любопытной протопопице было это очень неприятно, даже обидно, и если кулек, разложенный теперь пред нею во всех приятных подробностях, не задабривал ее несколько, то ее неудовольствие излилось бы в язвительной речи перед Афанасьевною, которая принесла ей ключи от погреба и не менее ее горела желанием узнать причину посещения купчихи.
Забежав перед тем к своей знакомке, оставленной нами под колокольнею, получила она от нее настоятельное поручение разведать, зачем Авакумиха пришла в такое необыкновенное время к отцу протопопу. Сия знакомка — надобно предуведомить читателей — принадлежала к числу тех тучных щепетильных торговок, которые высовывают свои головы из подземельных лавок близ Сухаревой башни, около церкви Троицы на Листах и вместе с нитками, шерстью, шелком и прочими вещами такого рода производят обширную меновую торговлю всеми семейственными новостями в той части города.
Читатели могут судить, с каким сердцем отвечала протопопица маме, — между тем как в противном случае, то есть знавши, о чем речь, она почла бы за особенное удовольствие удовлетворить ее любопытству и показать свое уменье решать всякие запутанные дела.
— Не твое дело, — отвечала она ей отрывисто, и Афанасьевна, с которой обыкновенно обращались запанибрата, но иногда держали в страхе, принуждена была замолчать, прикусив губы, и выжидать благоприятной минуты.
Между тем обе они, занимаясь приготовлениями к чаю, поглядывали на затворенную дверь, из-за которой слышен был невнятный шепот и за которую я должен теперь переселить моих читателей.
— Бог посетил нас, батюшко, ума приложить не могу. Сынку нашему Ганюшке так тоскуется, что на свет божий подчас не смотрит, все молчит, как к смерти приговоренный, иногда плачет. Я уж и тем и сем его тешу: и шубу енотовую купила в семьсот рублей, и шапку бобровую, и сукна тонкого на сюртук: ничто не в помогу — такая-то черная немочь нашла на него.
— А каково ведет он себя?
— Как красная девушка. Грешить нельзя на бога. Ни пьет, ни играет…
— Не слюбился ли с кем?
— Бог весть, сударь. Сама было я подумала на это, да нет: ворожейка вечор мне гадала и на воде, и на кофее, и на картах: полюбовницы нигде не выходит. Грусть есть, да сама не знает, какая. Не испортил ли кто его, моего голубчика, спросила я, — ведь от лихого человека не убережешься, батюшко, — и того нет. Ходила еще я намедни в навирситет: там один солдат всякую судьбу рассказывает, вертя какие-то два большие шара, все исписанные мелко-намелко и раскрашенные, в медных обручах, — один шар — небо, а другой — земля. Так вертел он их для меня, что ажно в глазах зарябело, а после стал все открывать, да что-то мудрено, — я, признаться, ничего и не поняла.
— Напрасно, Марья Петровна, вы прибегаете к таким мерам. Они достойны всякого порицания, и только великим раскаянием изгладить их можно пред богом. Это диавол, пакостник нашея плоти, смущает.
— Ох, батюшка, знаю сама, что грех смертный это чернокнижье: да ведь уж с горя. Помолитесь хоть вы обо мне недостойной!
— Скажите мне теперь — давно ли с ним случилось это?
— Давно уж, батюшко, он ходит, как темная туча, — года с два, — а растужился-то больно третий месяц; беда да и только. Судите, сударь, он у нас один, словно порох в глазе. Да еще что: боюсь я пуще сожителя: ведь он у меня, сами знаете, такой, бог с ним, суровой да строгой; молчит, молчит — да как рассердится на Ганю, как пришибет его за что-нибудь, так неравен час, долго ли до греха, — а у Семена Авдеевича рука такая тяжелая, такая тяжелая, что… (тут остановилась Марья Петровна, спохватившись, что уже и так сказала лишнее).
— Спрашивали ли вы его, отчего в нем такая печаль?
— Я всякий день почти спрашиваю. Наладил себе в ответ: ничего да и только, больше не добьешься. Я обещалась уже, батюшко, сходить пешком к Троице-Сергию, да по пути хочу побывать у одного старичка, налево от большой дороги за Братовщиною. Говорят, что он тоже всю подноготную ведает; как вы приговорите, батюшко? Вы нас до короткости знаете. Я всякого понятия лишилась. Правду сказать по пословице: чужую беду на воде разведу, а к своей, так и ума не приложу.
— Я ничего не могу сказать вам наскоро, любезная моя Марья Петровна. Сына вашего я знаю, вижу, как он и в церкви божией ведет себя, и ничего дурного за ним не примечал досель. Пришлите-ка вы его лучше ко мне: я постараюсь, опираясь на божие слово, преклонить его к откровенности и, может быть, при помощи свыше, успею в том. Никто таков, как бог. Тогда уж легко будет подумать и о средствах, как пресечь зло.

Михаил Петрович Погодин (1800–1875) — историк, литератор, издатель журналов «Московский вестник» (1827–1830), «Московский наблюдатель» (1835–1837; совместно с рядом литераторов), «Москвитянин» (1841–1856). Во второй половине 1820-х годов был близок к Пушкину.
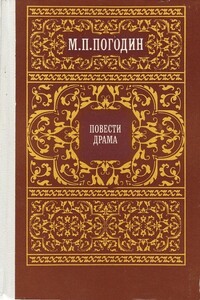
«Убийца» с подзаголовком «анекдот» впервые напечатан в «Московском вестнике» за 1827 г., ч. V, № XX, с. 374–381; «Возмездие» — там же, ч. VI, № XXIV, с. 404–407 со следующим предисловием: «(Приношу усердную благодарность А. З. Зиу, рассказавшему мне сие происшествие. В предлагаемом описании я удержал почти все слова его. — В истине можно поручиться.При сем случае я не могу не отнестись с просьбою к моим читателям: в Русском царстве, на пространстве 350 т. кв. миль, между 50 м. жителей, случается много любопытного и достопримечательного — не благоугодно ли будет особам, знающим что-либо в таком роде, доставлять известия ко мне, и я буду печатать оные в журнале, с переменами или без перемен, смотря по тому, как того пожелают гг-да доставляющие.) М.
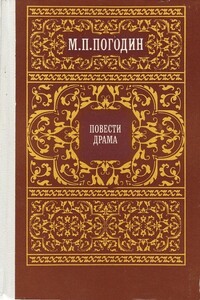
Повесть была впервые напечатана в альманахе «Урания» за 1826 г. Написана в Знаменском летом 1825 г. После событий 14 декабря Погодин опасался, что этой повестью он навлёк на себя подозрения властей. В 1834 г. Белинский писал, что повесть «Нищий» замечательна «по верному изображению русских простонародных нравов, по теплоте чувства, по мастерскому рассказу» (Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. 1, с. 94).
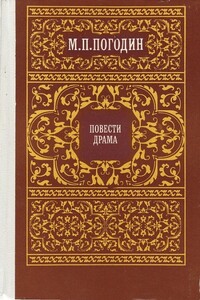
Исторический эпизод, положенный в основу трагедии, подробно описан в «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина, к которой восходит множество исторически достоверных деталей, использованных Погодиным. Опирался Погодин и на летописи. Основные вымышленные события и лица указаны им самим в предисловии. Кроме того, участие в вымышленной фабуле приписано некоторым историческим фигурам (Упадышу, Овину и др.); события, происходившие в разное время на протяжении 1470-х годов, изображены как одновременные.Сам Погодин так характеризовал свою трагедию в письме к Шевыреву: «У меня нет ни любви, ни насильственной смерти, ни трех единств.
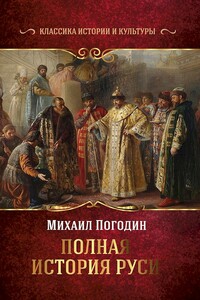
Михаил Петрович Погодин — один из первых историков, положивших начало новой русской историографии. Его всегда отличал интерес к истории Домонгольской Руси и критическое отношение к историческим источникам. Именно Погодин открыл и ввел в научный оборот многие древние летописи и документы. В этой книге собраны важнейшие труды Погодина, посвященные Древней Руси, не потерявшие своей научной ценности до сих пор.

В «Адели» присутствуют автобиографические мотивы, прототипом героини послужила княжна Александра Ивановна Трубецкая, домашним учителем которой был Погодин; в образе Дмитрия соединены черты самого Погодина и его рано умершего друга, лидера московских любомудров, поэта Д. В. Веневитинова, как и Погодин, влюбленного в Трубецкую.
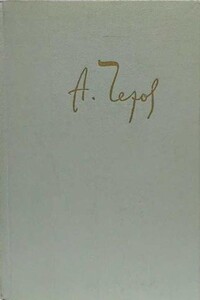
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
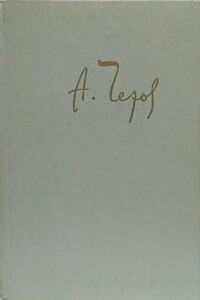
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
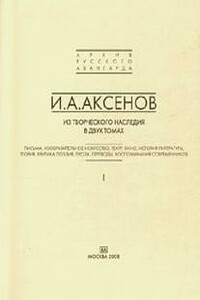
В первый том творческого наследия И. А. Аксенова вошли письма, изобразительное искусство, театр и кино; второй том включает историю литературы, теорию, критику, поэзию, прозу, переводы, воспоминания современников.https://ruslit.traumlibrary.net.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
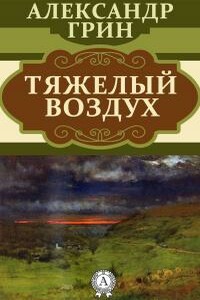
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В сборник произведений писателя-символиста Георгия Чулкова (1879–1939) вошли новеллы «Сестра», «Морская Царевна», «Подсолнухи», «Омут», «Судьба» и «Голос из могилы».