Через невидимые барьеры - [3]
Немедленно прекратив стрельбу, Козлов стал выводить из пикирования дрожащую, качающуюся с крыла на крыло, почти не слушающуюся рулей машину. Кое-как перейдя в горизонтальный полёт, он осмотрелся и — почувствовал себя далеко не блестяще. То, что открылось его взору, не давало ни малейших оснований для сколько-нибудь оптимистической оценки событий.
Левую пушку разорвало!
Мало того — разрушения распространились на силовую балку: она потеряла жёсткость и качалась, вызывая этим колебания хвостового оперения, а за ним и всего самолёта. В любую секунду балка могла отвалиться полностью, после чего машина, конечно, сразу же рухнула бы на землю как сундук, топор или любой иной предмет тяжелее воздуха, каким-то образом оказавшийся без опоры в некотором удалении от поверхности земли.
Казалось бы, лётчику не остаётся ничего другого, как выбрасываться с парашютом. Причём выбрасываться без промедления. Дело в том, что вопреки распространённому мнению самая рискованная и, так сказать, негарантийная часть вынужденного прыжка с парашютом — это не его раскрытие («раскроется или не раскроется») и даже не приземление, хотя и оно иногда бывает сильно осложнено. Главное — это суметь покинуть кабину. Недаром сейчас на боевых и экспериментальиых самолётах непременным элементом оборудования являются катапультируемые сиденья экипажа, позволяющие в случае необходимости выстрелиться из терпящего аварию самолёта. Тоже, конечно, не сахар — выстрелить человека! Но если нет другого выхода… В те времена, о которых идёт речь, никаких катапульт не существовало, а вылезти при помощи собственных усилий из кабины самолёта, летящего горизонтально, было, разумеется, всё же проще, чем из пикирующего, штопорящего или находящегося в беспорядочном падении. Именно поэтому шансы на благополучное покидание повреждённого самолёта уменьшались с каждой секундой промедления.
Итак, всё говорило за то, чтобы прыгать.
Но Козлов не прыгнул. Верный традициям настоящих лётчиков-испытателей, он стал тянуть к аэродрому, точными движениями рулей парировал неоднократные попытки самолёта сорваться, применил весь свой опыт, всё своё искусство и в конце концов дотянул и благополучно посадил тяжело раненную машину. Только благодаря этому оказалось возможным на земле разобраться в конкретных дефектах, послуживших причиной происшествия, и надёжно устранить их.
Естественное стремление каждого лётчика — сохранить доверенный ему самолёт — у лётчиков-испытателей развито особенно сильно. Новая опытная машина представляет собой не только огромную материальную ценность — эквивалент напряжённого длительного труда большого коллектива её создателей, но и является вещественным воплощением прогресса авиации. Гибель опытной машины всегда отбрасывает весь этот коллектив далеко назад — заставляет начинать всё с самого начала, так сказать, от старта, да к тому же делать это с тяжёлым сознанием наличия нераскрытого, а потому втрое более опасного дефекта, из-за которого погиб первый экземпляр. Потеря опытного самолёта — большая беда. И за его сохранение, за его доставку на землю в таком виде, который по крайней мере позволил бы разобраться в причинах происшествия, лётчик-испытатель всегда борется до последней возможности.
Это положение среди специалистов нашего дела считается азбучным, но тогда я впервые столкнулся с конкретным примером его реализации на практике, и орден на гимнастёрке Ивана Фроловича вызывал у меня большое уважение не только к нему самому, но и ко всей лётно-испытательной профессии.
К моменту моего появления в ЦАГИ личная испытательская деятельность Козлова уже заканчивалась. Правда, он ещё продолжал летать и, в частности, в недалёком будущем оказался ведущим лётчиком испытаний, связанных с моим дипломным проектом, но за опытные машины в другие особо серьёзные задания уже не брался (не зря, оказывается, меня смутили пресловутые очки). Освободившиеся силы и время Иван Фролович стал отдавать руководящей работе в отделе, а главное — обучению и вводу в строй молодых лётчиков-испытателей.
Первыми его выучениками были Ю.К. Станкевич, Н.С. Рыбко и Г.М. Шиянов, которых я застал молодыми — со стажем немногим более года, — но уже полностью введёнными в строй, действующими испытателями. Станкевич был авиационным инженером, Рыбко и Шиянов — старшими техниками. Учиться летать все трое начали, так сказать, с азов, уже работая в ЦАГИ.
Юрий Константинович Станкевич, красивый брюнет с подтянутой спортивной фигурой (ещё совсем недавно он занимал призовые места по фигурному катанию на коньках), воспитанный, культурный в полном смысле этого слова человек, был в моих (и не только моих) глазах ближе, чем кто-либо другой, к эталону лётчика-испытателя нового, формировавшегося на наших глазах типа. Он быстро совершенствовался, выполнял все более и более сложные задания, незадолго до войны успешно начал испытания новой опытной машины конструкции В.К. Таирова и, без сомнения, совершил бы ещё немало замечательных дел, если бы не погиб, выполняя свой долг, в начале 1942 года.
Николай Степанович Рыбко и Георгий Михайлович Шиянов — будущие Герои Советского Союза, заслуженные лётчики-испытатели СССР — также с самых первых шагов на испытательном поприще проявили свои незаурядные способности и уже через несколько лет уверенно вошли в ведущую группу отечественных лётчиков-испытателей — «первую десятку», — представителям которой неизменно поручались наиболее ответственные и сложные задания.

Автор этой книги — летчик-испытатель. Герой Советского Союза, писатель Марк Лазаревич Галлай. Впервые он поднялся в воздух на учебном самолете более пятидесяти лет назад. И с тех пор его жизнь накрепко связана с авиацией. Авиация стала главной темой его произведений. В этой книге рассказывается о жизни и подвигах легендарного советского авиатора Валерия Павловича Чкалова.
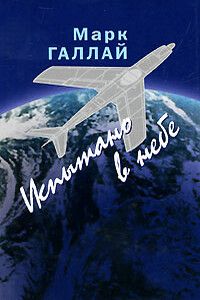
Легендарный летчик Марк Лазаревич Галлай не только во время первого же фашистского налета на Москву сбил вражеский бомбардировщик, не только лично испытал и освоил 125 типов самолетов (по его собственному выражению, «настоящий летчик-испытатель должен свободно летать на всем, что только может летать, и с некоторым трудом на том, что летать не может»), но и готовил к полету в космос первых космонавтов («гагаринскую шестерку»), был ученым, доктором технических наук, профессором. Читая его книгу воспоминаний о войне, о суровых буднях летчика-испытателя, понимаешь, какую насыщенную, необычную жизнь прожил этот человек, как ярко мог он запечатлеть документальные факты, ценнейшие для истории отечественной авиации, создать запоминающиеся художественные образы, характеры.

Яркие, самобытные образы космонавтов, учёных, конструкторов показаны в повести «С человеком на борту», в которой рассказывается о подготовке и проведении первых космических полётов.
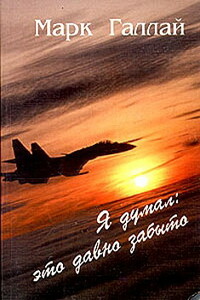
Эта рукопись — последнее, над чем работал давний автор и добрый друг нашего журнала Марк Лазаревич Галлай. Через несколько дней после того, как он поставил точку, его не стало…

Повесть «Первый бой мы выиграли» посвящена лётчикам, защищавшим небо Москвы от налётов вражеской авиации в трудные дни 1941 года.

Автор — полковник Красной армии (1936). 11 марта 1938 был арестован органами НКВД по обвинению в участии в «антисоветском военном заговоре»; содержался в Ашхабадском управлении НКВД, где подвергался пыткам, виновным себя не признал. 5 сентября 1939 освобождён, реабилитирован, но не вернулся на значимую руководящую работу, а в декабре 1939 был назначен начальником санатория «Аэрофлота» в Ялте. В ноябре 1941, после занятия Ялты немецкими войсками, явился в форме полковника ВВС Красной армии в немецкую комендатуру и заявил о стремлении бороться с большевиками.

Выдающийся русский поэт Юрий Поликарпович Кузнецов был большим другом газеты «Литературная Россия». В память о нём редакция «ЛР» выпускает эту книгу.

«Как раз у дверей дома мы встречаем двух сестер, которые входят с видом скорее спокойным, чем грустным. Я вижу двух красавиц, которые меня удивляют, но более всего меня поражает одна из них, которая делает мне реверанс:– Это г-н шевалье Де Сейигальт?– Да, мадемуазель, очень огорчен вашим несчастьем.– Не окажете ли честь снова подняться к нам?– У меня неотложное дело…».

«Я увидел на холме в пятидесяти шагах от меня пастуха, сопровождавшего стадо из десяти-двенадцати овец, и обратился к нему, чтобы узнать интересующие меня сведения. Я спросил у него, как называется эта деревня, и он ответил, что я нахожусь в Валь-де-Пьядене, что меня удивило из-за длины пути, который я проделал. Я спроси, как зовут хозяев пяти-шести домов, видневшихся вблизи, и обнаружил, что все те, кого он мне назвал, мне знакомы, но я не могу к ним зайти, чтобы не навлечь на них своим появлением неприятности.

Изучение истории телевидения показывает, что важнейшие идеи и открытия, составляющие основу современной телевизионной техники, принадлежат представителям нашей великой Родины. Первое место среди них занимает талантливый русский ученый Борис Львович Розинг, положивший своими работами начало развитию электронного телевидения. В основе его лежит идея использования безынерционного электронного луча для развертки изображений, выдвинутая ученым более 50 лет назад, когда сама электроника была еще в зачаточном состоянии.Выдающаяся роль Б.

За многие десятилетия жизни автору довелось пережить немало интересных событий, общаться с большим количеством людей, от рабочих до министров, побывать на промышленных предприятиях и организациях во всех уголках СССР, от Калининграда до Камчатки, от Мурманска до Еревана и Алма-Аты, работать во всех возможных должностях: от лаборанта до профессора и заведующего кафедрами, заместителя директора ЦНИИ по научной работе, главного инженера, научного руководителя Совета экономического и социального развития Московского района г.