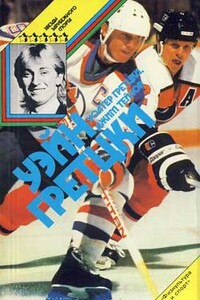Человек в движении - [15]
Брэду было четырнадцать, когда Рик вернулся домой; он был слишком молод, чтобы осознать происшедшее. Оба брата — и младший и старший — никогда особенно не умели выражать чувства друг к другу. «Вероятно, потому, — суховато добавляет Джоан, — что Рик постоянно что-то ему ломал». Однажды они дурачились — играли с веревкой, перекинутой через сук дерева, причем, пока один спускался вниз, другой должен был лезть вверх; так Рик свалился на Брэда и переломал ему все пальцы на правой ноге. В другой раз, когда они боролись на ковре, Рик поднял его за ноги, а потом уронил на пол. Брэд шлепнулся на нос, и опять перелом.
Но братьев связывала молчаливая близость.
«Помню, как ждал: вот придут врачи, прооперируют, и Рику станет лучше, — вспоминает Брэд. — Все эти годы мысль об этом не выходила у меня из головы. Когда я сопровождал его коляску на велосипеде по Австралии и Рик заметил (так, между прочим), что, какие бы там теперь исследования в медицине не начались, для него все равно слишком поздно, что он все равно никогда не будет ходить, у меня просто челюсть отвалилась. Что называется, «разинул варежку». Видно, я так и не переставал верить…»
Синди — ей тогда было одиннадцать лет — до сих пор помнит, как возилась с братом, мяла его неподвижные ноги, щекотала пятки, щипала за пальцы. «Все хотела, чтобы он хоть раз вскрикнул от боли. Но этого так и не случилось».
Боб Редфорд, школьный учитель Рика по физкультуре и человек, так сильно повлиявший на всю его жизнь, придерживается несколько иной точки зрения на становление Хансена в его новой жизни. Он считает, что и каталка, и занятия спортом сыграли известную роль, но все-таки не такую большую, как ребята — друзья Рика, которые всегда были с ним, когда он в них нуждался.
Эта компания — Патти, Дон Алдер и ребята из школьной команды, с которыми он дружил еще до катастрофы, — ну просто какие-то особенные. Они постоянно были готовы помогать, но так, что он чувствовал себя с ними на равных, и при этом они всегда умели не переусердствовать.
Когда Рик вернулся домой, он был заряжен каким-то упрямством. Видно, очень уж муторно было у него на душе, но он очень редко выказывал свое состояние, всегда старался показать, что держит себя в руках, даже когда что-то было не так. Многих это ставило в тупик: люди не знали, что делать. Хотят помочь ему подняться по лестнице, ну, или еще чем, а он — нет, мол, не надо. Ну, а его ребята справлялись с этим в два счета. Он всегда входил в эту компашку и раньше везде с ними мотался, а теперь, когда вернулся, конечно же, опять, как и прежде: куда они, туда и он. Нет, они вовсе не забывали о несчастье, случившемся с Риком. Просто не давали ему стать помехой в их отношениях. Если кто обо всем этом и задумывался, то только сам Рик.
«Я часто думал об этом. Будь они на год-другой помоложе или будь на их месте просто другие ребята, все могло быть куда хуже. И кто знает, чем все это могло обернуться…»
Еще в госпитале Дж. Ф. Стронга, когда я только готовился к возвращению домой в Уильямс-Лейк, я принял три решения.
Со спортом покончено, ибо на что я теперь годен?
На женщинах можно поставить крест. Какая девчонка в здравом уме захочет со мной встречаться?
Все внимание надо сосредоточить на школе. Я отставал на целое полугодие, так что придется нагонять, много заниматься дополнительно.
Общественная жизнь? Не дури себе голову. Я ведь был «звездой» в спорте. Все, что я ни делал, крутилось вокруг спорта. Команда для меня была что дом родной. Кому из ребят захочется болтаться с парнем в инвалидной коляске? У них и так дел хватает. Это я твердо знал, ведь и сам был таким же.
Фактам нужно смотреть в лицо, и с той минуты, как Бронко подрулил и встал у подъезда дома, фактов этих было хоть отбавляй.
Первое: наш дом был абсолютно не приспособлен для кресла-каталки.
Второе: я не был уверен, что вообще захочу здесь жить.
Снаружи дом выглядел прекрасно — ровная подъездная дорожка и лишь одна ступенька перед входом. Но стоит войти, как попадаешь на нижнюю лестничную площадку, где кресло едва помещалось, не говоря уже о том, чтобы в нем развернуться. Тут ты упираешься носом в крутую лестницу из семи ступеней — она ведет в жилую часть дома, а потом еще одна лестница — опять семь ступеней, но уже вниз, в подвал. Попасть на террасу, что примыкает к кухне и расположена на уровне земли за домом, — значит одолеть еще двенадцать ступеней. Пройти от заднего дворика до входа в дом и потом попасть в подвал, где отец устроил мое жилище, — значит одолеть еще шесть ступенек по бетонной лестнице. И это-то на каталке? Даже думать нечего.
Но это меня не беспокоило. Я ненавидел кресло-каталку. Одним своим видом, когда я в нем сидел, оно как бы заявляло на весь мир о моей увечности. Хуже того, оно каждый раз убеждало в этом меня самого. Вот я и старался всякий раз пользоваться башмаками-скобами и костылями. Пока я стоял на ногах, я не ощущал себя столь уж безнадежным инвалидом. Итак, я ринулся в наступление на собственный дом, точно так же, как атаковал коридоры и лестницы в госпитале Дж. Ф. Стронга.
Ну, а дом давал мне сдачи.

«Полтораста лет тому назад, когда в России тяжелый труд самобытного дела заменялся легким и веселым трудом подражания, тогда и литература возникла у нас на тех же условиях, то есть на покорном перенесении на русскую почву, без вопроса и критики, иностранной литературной деятельности. Подражать легко, но для самостоятельного духа тяжело отказаться от самостоятельности и осудить себя на эту легкость, тяжело обречь все свои силы и таланты на наиболее удачное перенимание чужой наружности, чужих нравов и обычаев…».

«Новый замечательный роман г. Писемского не есть собственно, как знают теперь, вероятно, все русские читатели, история тысячи душ одной небольшой части нашего православного мира, столь хорошо известного автору, а история ложного исправителя нравов и гражданских злоупотреблений наших, поддельного государственного человека, г. Калиновича. Автор превосходных рассказов из народной и провинциальной нашей жизни покинул на время обычную почву своей деятельности, перенесся в круг высшего петербургского чиновничества, и с своим неизменным талантом воспроизведения лиц, крупных оригинальных характеров и явлений жизни попробовал кисть на сложном психическом анализе, на изображении тех искусственных, темных и противоположных элементов, из которых требованиями времени и обстоятельств вызываются люди, подобные Калиновичу…».

«Ему не было еще тридцати лет, когда он убедился, что нет человека, который понимал бы его. Несмотря на богатство, накопленное тремя трудовыми поколениями, несмотря на его просвещенный и правоверный вкус во всем, что касалось книг, переплетов, ковров, мечей, бронзы, лакированных вещей, картин, гравюр, статуй, лошадей, оранжерей, общественное мнение его страны интересовалось вопросом, почему он не ходит ежедневно в контору, как его отец…».

«Некогда жил в Индии один владелец кофейных плантаций, которому понадобилось расчистить землю в лесу для разведения кофейных деревьев. Он срубил все деревья, сжёг все поросли, но остались пни. Динамит дорог, а выжигать огнём долго. Счастливой срединой в деле корчевания является царь животных – слон. Он или вырывает пень клыками – если они есть у него, – или вытаскивает его с помощью верёвок. Поэтому плантатор стал нанимать слонов и поодиночке, и по двое, и по трое и принялся за дело…».

Григорий Петрович Данилевский (1829-1890) известен, главным образом, своими историческими романами «Мирович», «Княжна Тараканова». Но его перу принадлежит и множество очерков, описывающих быт его родной Харьковской губернии. Среди них отдельное место занимают «Четыре времени года украинской охоты», где от лица охотника-любителя рассказывается о природе, быте и народных верованиях Украины середины XIX века, о охотничьих приемах и уловках, о повадках дичи и народных суевериях. Произведение написано ярким, живым языком, и будет полезно и приятно не только любителям охоты...

Творчество Уильяма Сарояна хорошо известно в нашей стране. Его произведения не раз издавались на русском языке.В историю современной американской литературы Уильям Сароян (1908–1981) вошел как выдающийся мастер рассказа, соединивший в своей неподражаемой манере традиции А. Чехова и Шервуда Андерсона. Сароян не просто любит людей, он учит своих героев видеть за разнообразными человеческими недостатками светлое и доброе начало.