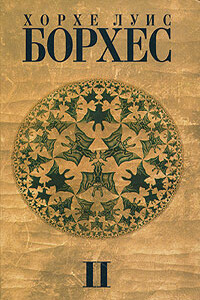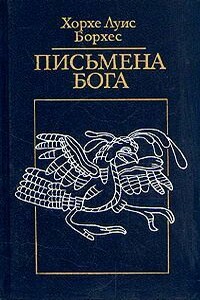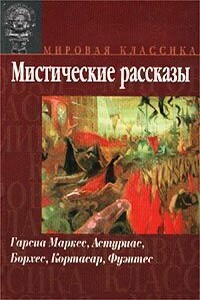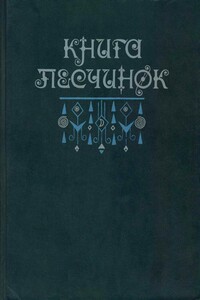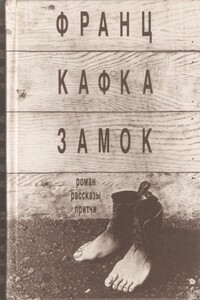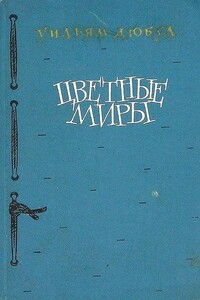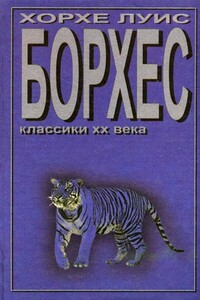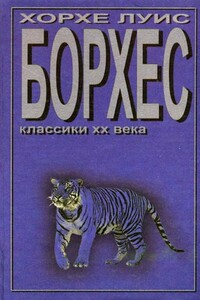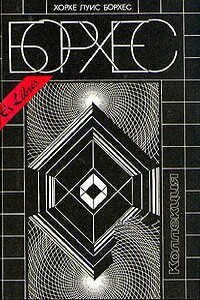Тут его рассказ прервали женщины, входящие в дом.
Он не спеша продолжал:
— Считается, что в каждом поколении есть по крайней мере четыре праведника, на которых незримо держится мир и которые служат его оправданием перед ликом Господа: один из таких людей был бы самым подходящим судьей. Но где найти их, если они безымянные ходят по свету, и мы не сумеем узнать их, если встретим, а они и сами не догадываются о высокой цели, которой служат? Тогда кто-то решил, что, если судьба отказывает нам в мудрецах, надо искать неразумных. Это мнение возобладало. Ученые, законники, сикхи, которых называют львами и которые чтят одного Бога, индуисты, которые поклоняются множеству богов, монахи Махавиры, которые учат, что Вселенная имеет вид человека с расставленными ногами, огнепоклонники и черные евреи вошли в состав суда, но вынести окончательный приговор было предоставлено сумасшедшему.
Здесь рассказ перебили несколько человек, возвращавшихся с празднества.
— Сумасшедшему, — повторил он, — потому что мудрость Бога говорит его устами и смиряет человеческую гордыню. Его имя забылось или никогда не было известно, но он ходил по улице нагим или в лохмотьях, пересчитывая свои пальцы и дразня деревья.
Мой здравый смысл восстал. Я сказал, что поручить решение сумасшедшему значило сделать процесс недействительным.
— Обвиняемый признал его судьей, — был ответ. — Возможно, он понимал, какой опасности подвергнутся заговорщики, отпустив его на свободу, и только сумасшедший мог не вынести ему смертный приговор. Я слышал, что он засмеялся, узнав, кто его судья. Процесс тянулся много дней и ночей из-за огромного числа свидетелей.
Он замолчал, чем-то обеспокоенный. Чтобы что-то сказать, я спросил, сколько дней.
— По меньшей мере девятнадцать, — ответил он.
Люди, возвращавшиеся с празднества, снова прервали его: вино запрещено мусульманам, но лица и голоса казались пьяными. Минуя нас, один из них что-то крикнул.
— Девятнадцать дней, точно, — повторил старик. — Неверный пес выслушал приговор, и нож вонзился в его горло. — Он проговорил это со свирепой веселостью. И прежним тоном досказал конец истории: — Он умер без страха; и в самых низких людях бывает достоинство.
— Где произошло то, о чем ты рассказываешь? — спросил я. — В отдаленном пригороде?
В первый раз он посмотрел мне в глаза. Потом неспешно ответил, взвешивая каждое слово:
— Я говорил, что его держали в заключении в отдаленном пригороде, но не судили. А судили в этом городе: в таком же доме, как другие, как вот этот. Дома ничем не отличаются друг от друга: важно лишь знать, где построен дом, в аду или на небе.
Я спросил его о судьбах заговорщиков.
— He знаю, — терпеливо отвечал он. — Это произошло и уже забылось столько лет назад. Возможно, люди осудили их, но не Бог.
Сказав так, он поднялся. Я понял, что это были прощальные слова и что с этой минуты я перестал существовать для него. Бормоча и распевая, толпа мужчин и женщин всех национальностей Пенджаба прокатилась через нас и чуть не увлекла за собою: мне показалось удивительным, что из таких тесных, ненамного просторнее подъезда, двориков, может появится столько народу. Из соседних домов выходили еще люди, наверняка они перелезли через изгородь. Раздавая толчки и ругаясь, я проложил себе дорогу. И в последнем дворе наткнулся на обнаженного человека в венке из желтых цветов, держащего в руке саблю, которого все приветствовали и целовали. Сабля была в крови, потому что ею был убит Гленкэрн, чей изуродованный труп я обнаружил в конюшне в глубине двора.