Человек, который ел смерть. 1793 - [4]
Попье, как это следует из Записки о долге, приложенной к Документу № 3, обладал именно тем почерком, который требовался Революции: остро пуританский, отчетливо римский и в то же время патриотический, лишенный дигрессивного украшательства роялистских указов. Каллиграфия его походила на готические соборы, на конструкцию их острых стереометрических форм, максимально приближенных к копью санкюлота, на котором ночами Сентябрьской резни носили голову принцессы де Ламбаль, или в день падения Бастилии голову ее коменданта господина де Лоне.
Отказаться было невозможно, даже при желании. Это означало бы уронить на площади Революции собственную «голову в корзину». Так провинциальный каллиграф оказался на магическом перекрестке идеи и действительности, Философии и Истории, Проекта и Дела, и — неизбежно, исходя из реакционной писарской перспективы, — между Революцией и Контрреволюцией, на водоразделе, который в то время проходил по светлым каменным холлам Революционного суда, где пути разветвлялись: один вел к Общественному договору и Новой Элоизе Ж.-Ж. Руссо, и далее в небеса; второй уводил в мрачные подвалы Консьержери, затем по рю Сент-Оноре к гильотине на площади Революции, а уже оттуда — в землю.
На историческом перекрестке, который стал видимым намного позже, а также с какой-то иной хиазмы, пока что также невидимой, письменный стол Попье был последним в ряду, слева от дверей и далеко от окна, в канцелярии Архива, рядом с залом заседаний суда.
Работа его была несложной. По мере поступления он заносил в протокол приговоры и передавал их чиновнику, который составлял списки очередности казней. Список в тот же день передавался дежурному члену трибунала. Тот относил его в Консьержери, где контролировал перекличку приговоренных и подготовку к казни, ограниченную отрезанием длинных волос и широких воротников, сопровождал в закрытом экипаже приговоренных к месту казни, а когда их головы падали на солому, постеленную под гильотиной, на простонародном жаргоне — «падали в корзину», своей подписью, не покидая площади, превращал приговор в свидетельство о смерти.
Как свидетельствует Документ № 3, уже в июле 1793 года работы было столько, что Попье с шестью писарями вынужден был переехать в помещения мансарды Дворца правосудия. Кроме нескольких выделенных для сна часов, все прочее время он приводил в порядок судебные протоколы. Записывал личные данные приговоренных, не вникая в частности, останавливаясь только на содержании обвинения. Суммирование контрреволюционных преступлений, которых по мере успешного развития Революции становилось все больше, требовало значительного душевного напряжения. Бланки протоколов, унаследованных от старого режима, не могли предугадать такой эпидемии антигосударственных настроений. (Парадокс, который, несмотря на усердную помощь диалектики ученого Матьеза, я не могу объяснить. Веками угнетенный народ боролся за свои права. Наконец, с известной помощью Ж.-Ж. Руссо и энциклопедистов, он добился своего, стал суверенным, но за два года Революции пострадал сильнее, чем за несколько веков роялистского абсолютизма.)
К счастью, позже процедура упростилась. Так, могло случиться, что Конвент, следуя своим человеколюбивым принципам, отменит смертную казнь для будущих преступников, но гильотина все еще будет убивать бывших. Закон от 22 прериаля, 10 июня 1794 года, отменил право на защиту. Защиту объявили демонстрацией контрреволюционного недоверия к Народному суду. В качестве доказательства «неделимости добродетели» запретили любые приговоры, кроме смертной казни или оправдания. Революционная практика довершила естественный процесс стремления к лаконичности процесса вынесения приговоров отказом от оправданий и сведением любой вины — от проституции до конспирации, от сомнительного происхождения до кислой физиономии на патриотических посиделках, Парижских секциях, — к всеохватному понятию ennemis du people, враги народа.
И только тогда Попье смог передохнуть. По правде, мог бы, если бы не увяз глубоко в делах, которые сделали его в глазах гомеридов Реставрации святым, а в моих — сюжетом для этого рассказа.
Мало что известно о том, как выглядел этот человек. Поклонники его дела своими неумеренными преувеличениями сумели бы более-менее убедительную биографию превратить в апокриф. Если отбросить похвалы в адрес его исключительного человеколюбия, отваги и ловкости — а впадая в другую крайность, эти черты назовут неосмотрительностью, глупостью и безумием, — то перед нами возникает образ, следы которого не в состоянии сохранить даже самая густая глина жизни.
Статью он, похоже, был ни крупным, ни мелким, ни великаном, ни карликом, обращающим на себя внимание; толстым он не мог быть, скорее — худым, но во времена всеобщего голода — не более, чем прочие; наверняка также бледным, но во времена страха это было обычным для человеческого лица; вероятно, молчаливым, но кто тогда, кроме наивных и властных, был разговорчив?
Не надо отыскивать каких-то особенностей в личности Попье. Да и если бы они у него были, то сидел бы он на соломе в Консьержери, а не в канцелярии Революционного трибунала.
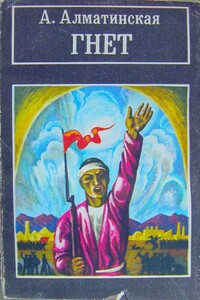
Роман А. Алматинской «Гнёт» — большое историческое полотно, в котором нашли своё отражение события целой эпохи. А. Алматинская рисует дореволюционный Туркестан, быт и нравы колониальной окраины России, показывает, как шло сближение народов, как зрели революционные силы, свергнувшие в 1917 году царя и буржуазию и открывшие новую, светлую страницу в жизни Туркестана. Настоящее издание романа «Гнёт» А. Алматинской предпринято в связи со 100-летием со дня её рождения. Издание третье в двух книгах (сокращённое).

В основе данной книги лежат воспоминания подполковника запаса, который в 1967—1969 годах принимал непосредственное участие в становлении уникальной в/ч 46180 — единственной военно-морской части на космодроме Байконур. Описанный период это начальная фаза становления советского ракетного щита, увиденная глазами молодого старшины — вчерашнего мальчишки, грезившего о космосе с самого детства.

В начале 20-го века Мария Эйзлер и Григорий Плоткин связали себя брачными узами. В начале 21-го века их сын Александр Плоткин посмотрел на историю своей семьи ясным и любящим взглядом. В результате появилась эта книга.

Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии республики Серо Ханзадян в романе «Царица Армянская» повествует о древней Хайасе — Армении второго тысячелетия до н. э., об усилиях армянских правителей объединить разрозненные княжества в единое централизованное государство.

В книгу входят исторические повести, посвященные героическим страницам отечественной истории начиная от подвигов князя Святослава и его верных дружинников до кануна Куликовской битвы.
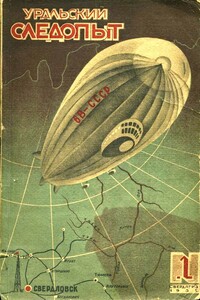
В Екатеринбургской крепости перемены — обербергамта больше нет, вместо него создано главное заводов правление. Командир уральских и сибирских горных заводов Василий Никитич Татищев постепенно оттесняет немецкую администрацию от руководства. В то же время недовольные гнётом крепостные бегут на волю и объединяются вокруг атамана Макара Юлы. Главный герой повести — арифметический ученик Егор Сунгуров поневоле оказывается в центре событий.