Чехов - [25]
Но мы знаем, что, как человек, Чехов не только сидел на лавочке, на завалинке, не только созерцал и думал о том о сем, – он с домоседом сочетал в себе путешественника, и были в его жизни героические моменты. «На душе спокойнее, когда вертишься». Он достаточно вертелся по свету, этот любитель лавочки. По его убеждению, свой корабль нужно «пускать плавать по широкому морю, а не держать его в Фонтанке», и нельзя на это возражать, что только большому кораблю – большое и плавание. Чехов верил, что мы сами ограничиваем свои просторы и что, в сущности, каждая душа создана для нравственного мореплавания. Максиму Горькому он советует всю полноту жизни, далекие дороги, мирской шум, путешествие в Индию. «Когда в прошлом есть Индия, долгое плавание, то во время бессонницы есть о чем вспомнить», а почти всякому предстоят бессонные ночи перед последней беспробудной ночью, и надо к ним готовиться… Чехов любил «понюхать палубы, моря», знал не только Европу, но и Амур, Байкал, Цейлон; его мучительно трудная поездка на Сахалин обнаруживает в его тихой душе такие порывы, такое любопытство духа, такую чрезвычайную заинтересованность, каких многие от него и не ждали. То, что он видел на Сахалине, где «мы сгноили в тюрьме миллионы людей», должно было на сердце его наложить лишнюю тень, провести в нем лишнюю борозду мрака. Но уже и по дороге туда как страдал Чехов! Он рассказывает об этом в своей обычной юмористической манере; он купил себе большой ножик для резания колбасы и охоты на тигров, – вооружен с головы до ног, но вооружение не спасало его от голода и грозных опасностей. Он «в лютый мороз» и метель сбился с дороги, «напужался страсть»; не раз его жизнь висела на волоске, и он вообще испытал на своем веку трагические ощущения. Не трагично, но и не легко и такое состояние: «Всю дорогу я голодал, как собака. Даже о гречневой каше мечтал. По целым часам мечтал».
«Напужался страсть…» Однако жил Чехов так, что своего испуга перед жизнью и перед смертью он не показывал. Напротив, перед жизнью и перед смертью у него – чувство достоинства, человеческая гордость. Спокойно, не обнаруживая своих страданий, описывает он ужасы не только чужие, но и свои. Излияний он себе не позволяет. На его глазах умирали – бледнее становился Чехов, но сохранял все то же человеческое достоинство и сдержанность. Умер его брат-художник (перед смертью завел он себе котенка, играл с ним, умирая). «Вчера, 17 июня, умер от чахотки Николай. Лежит теперь в гробу с прекраснейшим выражением лица. Царство ему небесное, – а Вам, его другу, здоровья и счастья», – трогательно прибавляет Чехов. Он знал, что конец Николая был неминуем; но когда у постели больного сменил его третий брат, измученный Чехов уехал подышать другим воздухом. И как бы в наказание, несмотря на лето, погода застигла его в пути ужасная: холод, ветер, грязная дорога, серое небо, слезы на деревьях; и как только он приехал на место ожидаемого отдыха, явился из Миргорода мужичонка «с мокрой телеграммой: Коля скончался». Сейчас же обратно. В Ромнах надо было ждать поезда с семи часов вечера до двух ночи. «Помню, сижу в саду; темно, холодище страшный, скука аспидская, а за бурой стеною, около которой я сижу, актеры репетируют какую-то мелодраму».
Самообладание, целомудренность души, страдающей про себя, не на людях, – все это осуществлял Чехов и перед лицом собственной горькой судьбы. Иссякают медленно и неуклонно его бедные дни; «жизнь идет и идет, а куда – неизвестно»; больно читать о его болях. «Нет числа недугам моим». «Бываю здоров не каждый день». «Здоровья своего я не понимаю». Но нет – врач, он его хорошо понимал… «Вы совершенно верно изволили заметить, что у меня истерия. Только моя истерия в медицине называется чахоткой». Метался он по свету в поисках воздуха для своей больной груди, в поисках солнца, в томлении духа и тела. Он всю жизнь умирал. Но не жаловался, других своей болезнью, своей «истерией» не изводил, не стеснял и, не изменяя своему юмору, спокойно-печальными глазами своими смотрел в глаза подходившей смерти, выдерживал ее пристальный взгляд. Великодушный к жизни и благодарный, он не делается брюзгой, не хандрит и мать свою поучает: «В Ялте тоже воют собаки, гудят самовары и трубы в печах… Как бы ни вели себя собаки и самовары, все равно после лета должна быть зима после молодости старость, за счастьем несчастье и наоборот; человек не может быть всю жизнь здоров и весел, его всегда ожидают потери, он не может уберечься от смерти, хотя бы был Александром Македонским, и надо быть ко всему готовым… Надо только, по мере сил, исполнять свой дол!. и больше ничего». Это не морализм, не прописная сентенция; это – глубокое убеждение Чехова, и сам он тихо претворял его в свою жизнь, в свою короткую жизнь. Он преодолевал «чеховские» настроения своих же рассказов и пьес – все это тоскливое завывание собак и ветра в трубе; он жил живою жизнью и до конца исполнил свой долг. Даже больше дал он России, чем должен был ей, – дал не только свои литературные произведения, но и свои письма, которые продолжают его писания и которых нельзя исчерпать никакими цитатами: столько в них чарующей содержательности, ума и сердца. И свидетельствуют они о том, какая с Чеховым дорогая и красивая душа отдышала, какие царили в ней, помимо таланта, живые очарования и тихий свет. И волнуют они зрелищем нашей горестной земной судьбы, от его личной жизни какие-то общие раскрывая горизонты в даль и сущность каждого человеческого жребия.

«Когда-то на смуглом лице юноши Лермонтова Тургенев прочел «зловещее и трагическое, сумрачную и недобрую силу, задумчивую презрительность и страсть». С таким выражением лица поэт и отошел в вечность; другого облика он и не запечатлел в памяти современников и потомства. Между тем внутреннее движение его творчества показывает, что, если бы ему не суждено было умереть так рано, его молодые черты, наверное, стали бы мягче и в них отразились бы тишина и благоволение просветленной души. Ведь перед нами – только драгоценный человеческий осколок, незаконченная жизнь и незаконченная поэзия, какая-то блестящая, но безжалостно укороченная и надорванная психическая нить.

«В представлении русского читателя имена Фета, Майкова и Полонского обыкновенно сливаются в одну поэтическую триаду. И сами участники ее сознавали свое внутреннее родство…».
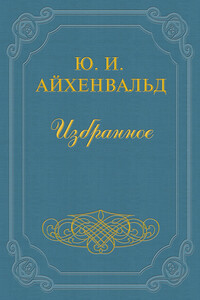
«Сам Щедрин не завещал себя новым поколениям. Он так об этом говорит: „писания мои до такой степени проникнуты современностью, так плотно прилаживаются к ней, что ежели и можно думать, что они будут иметь какую-нибудь ценность в будущем, то именно и единственно как иллюстрация этой современности“…».
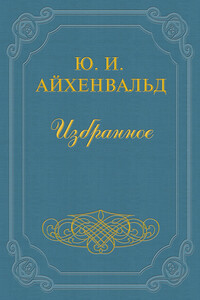
«На горизонте русской литературы тихо горит чистая звезда Бориса Зайцева. У нее есть свой особый, с другими не сливающийся свет, и от нее идет много благородных утешений. Зайцев нежен и хрупок, но в то же время не сходит с реалистической почвы, ни о чем не стесняется говорить, все называет по имени; он часто приникает к земле, к низменности, – однако сам остается не запятнан, как солнечный луч…».

«Наиболее поразительной и печальной особенностью Горького является то, что он, этот проповедник свободы и природы, этот – в качестве рассказчика – высокомерный отрицатель культуры, сам, однако, в творчестве своем далеко уклоняется от живой непосредственности, наивной силы и красоты. Ни у кого из писателей так не душно, как у этого любителя воздуха. Ни у кого из писателей так не тесно, как у этого изобразителя просторов и ширей. Дыхание Волги, которое должно бы слышаться на его страницах и освежать их вольной мощью своею, на самом деле заглушено тем резонерством и умышленностью, которые на первых же шагах извратили его перо, посулившее было свежесть и безыскусственность описаний.

«Одинокое произведение Грибоедова, в рамке одного московского дня изобразившее весь уклад старинной жизни, пестрый калейдоскоп и сутолоку людей, в органической связи с сердечной драмой отдельной личности, – эта комедия с избытком содержания не умирает для нашего общества, и навсегда останется ему близок и дорог тот герой, который перенес великое горе от ума и оскорбленного чувства, но, сильный и страстный, не был сломлен толпою своих мучителей и завещал грядущим поколениям свое пламенное слово, свое негодование и все то же благородное горе…».

«…Это решительно лучшее из всех «драматических представлений» г-на Полевого, ибо в нем отразилось человеческое чувство, навеянное думою о жизни; а между тем г. Полевой написал его без всяких претензий, как безделку, которая не стоила ему труда и которую прочтут – хорошо, не прочтут – так и быть!…».

«…Не знаем, право, каковы английский и немецкие водвили, но знаем, что русские решительно ни на что не похожи. Это какие-то космополиты, без отечества и языка, какие-то тени без образа, клетушки и сарайчики (замками грешно их назвать), построенные из ничего на воздухе. В них редко встретите какое-нибудь подобие здравого смысла, об остроте и игре ума и слов лучше и не говорить. Место действия всегда в России, действующие лица помечены русскими именами; но ни русской жизни, ни русского общества, ни русских людей вы тут не узнаете и не увидите…».

«…К числу особенных достоинств статей, помещаемых в этом издании, должно отнести их совершенную соответственность и верность идее и цели: так, например, «Уральский казак» – это не повесть и не рассуждение о том, о сем, а очерк, и притом мастерски написанный, который в журнале не заменил бы собою повести, а в «Наших» читается, как повесть, имеющая все достоинство фактической достоверности…».

«Во все времена человеческой жизни, с тех пор как люди себя помнят, были войны. Войны, с тех пор как существуют государства, начинались правительствами, а кончались – борьбой сословий; бедные принимались бороться с богатыми. Богатые противились и не хотели уступать. Тогда начинались народные движения; более долгие и более мирные движения называются реформациями, а более короткие и более кровавые – революциями…».
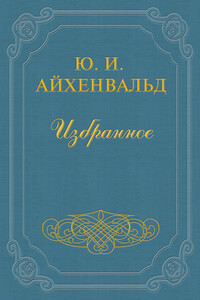
«Характерно для Левитова, что бытописатель, прикованный к месту и моменту, постоянно видя пред собою какое-то серое сукно жизни, грубость и безобразие, пьяные толпы России, крестьянскую нужду и пролетариат городской, он в то же время способен от этой удручающей действительности уноситься далеко в свою мечту – и она, целомудренная, поэтическая, сентиментальная, еще резче оттеняет всю тьму и нелепицу реальной прозы. В нем глубоко сочетаются реалист и романтик…».
