Чехов - [21]
Впрочем, если верить ему, он, чтобы этого достигнуть, должен был одержать победу над своим воспитанием и средой, должен был перевоспитать самую природу свою. «Что писатели-дворяне брали у природы даром, то разночинцы покупают ценою молодости. Напишите-ка рассказ о том, как молодой человек, сын крепостного, бывший лавочник, певчий, гимназист и студент, воспитанный на чинопочитании, целовании поповских рук, поклонении чужим мыслям, благодаривший за каждый кусок хлеба, много раз сеченный, ходивший по урокам без калош, дравшийся, мучивший животных, любивший обедать у богатых родственников, лицемеривший и Богу, и людям без всякой надобности, только из сознания своего ничтожества, – напишите, как этот молодой человек выдавливает из себя каплями раба и как он, проснувшись в одно прекрасное утро, чувствует, что в его жилах течет уже не рабская кровь, а настоящая человеческая».
«Напишите рассказ»… Но замечательно, что если бы темы для него не дал сам Чехов, то никто бы и не заметил этого перевоспитания, этого преодолевания рабских начал, так как уже в самых ранних письмах Чехов – свой, а не чужой, и обнаруживается там аристократичность его нравственной природы, джентльменство сердца, та врожденная «легкая душа», душа без духоты, то «око доброго человека», которых он ждал от своих корреспондентов. В требованиях к людям очень далекий от морального педантизма, он не переносит одной только пошлости, своего лютого врага, который угнетал его и как человека. Ему нужно, чтобы мы брали друг у друга одно только положительное, его замечали, им дорожили. «У Ноя было три сына: Сим, Хам и, кажется, Иафет. Хам заметил только, что отец его – пьяница, и совершенно упустил из виду, что Ной гениален, что он построил ковчег и спас мир». О, этот второй сын Ноя, вечный Хам, предок многочисленных потомков! В бесконечных разновидностях являлся он перед Чеховым, открытый или в футляре, а футляры наш писатель видел разные, между прочим, и либеральный, тот ярлык, которым иные «глупые суслики» опошляют великую традицию свободы. «Шестидесятые годы – это святое время, и позволять глупым сусликам узурпировать его – значит опошлять его». «Я не верю в нашу интеллигенцию, лицемерную, фальшивую, истеричную, невоспитанную, ленивую, не верю даже, когда она страдает и жалуется, ибо ее притеснители выходят из ее же недр. Я верю в отдельных людей, я вижу спасение в отдельных личностях, разбросанных по всей России там и сям, – интеллигенты они или мужики; в них сила, хоть их и мало». Не приписанный ни к какому лагерю, «дикий» и в своей дикости такой терпимый, либерал души, Чехов не переносит фирмы и умственного сектантства: «Я ненавижу ложь и насилие во всех их видах; фарисейство, тупоумие и произвол царят не в одних только купеческих домах и кутузках; я вижу их в науке, в литературе, среди молодежи». Ему претит всякая профанация идеальных ценностей. «Интеллигенция пока только играет в религию», и тем хороши мусульмане, что «у них нет религиозных дам – сего элемента, от которого мельчает религия, как Волга от песку». Мели – от человека; сама же по себе религиозность глубока. Фраза – от человека; но слово – от Бога. В приятии или неприятии людей Чехов руководствуется не обычными грубыми мерками: для него, художника, главную роль играют художественные, тонкие признаки, отсутствие или присутствие высшей эстетичности, «человеческого таланта»; иной раз одно слово, один жест значит больше, чем объективные достоинства или недостатки. И скорее, охотнее Чехов принимает, чем отвергает. У него – стремление найти хорошее, хорошего; у него – изумительно бережное обращение с чужой душою, непогрешимая, музыкальная чуткость. И в крупном, и в мелочах он жил так, что никому не делал больно и никто об него не ушибался. Облегчать отношения, выбирать соответственные, успокаивающие слова, разрешать жизненные неловкости – едва ли кто-нибудь знал это лучше, чем он. Любить страстно и патетично он не мог и не умел; расстояние между собою и другими он всегда соблюдал, но maximum того, что по совести и по темпераменту своему мог он людям давать, он давал, и в пределах своего внутреннего имущества был он тароват – внимательный, деликатный, осторожный. Вспомним хотя бы его приемы с чужим авторским самолюбием. Многие писатели спрашивали у него мнения о своем творчестве, и посторонние рукописи на его столе часто занимали больше места, чем собственные; и за этим столом он, как герой своего рассказа, нередко в изнеможении выслушивал эпопею какой-нибудь убийственной дамы. Но Чехов не бросал в нее пресс-папье. Никому не отказывал он в своем совете и оценке. Здесь так легко обидеть, огорчить – он же, не поступаясь правдой, всегда находил для нее, для этой подчас горькой правды, такой тон, такую душевную интонацию (вообще, всю его писательскую и человеческую музыку делает ее невоспроизводимый тон), что едва ли кто-нибудь от его рецензии, соединения откровенности и пощады, испытывал обиду и боль. Так звучали слова Чехова, что сами авторы, вероятно, не без оттенка удовольствия читали на свой же счет его безобидные шутки: «знаки препинания, служащие нотами при чтении, расставлены у Вас, как пуговицы на мундире гоголевского городничего»; «это не рассказ, а длинный ряд тяжелых угрюмых казарм». Как редактор, Чехов и переделывал творения начинающих беллетристов; про один такой случай он пишет: «Из корабля я сделал гвоздь», и, вероятно, сам строитель огромного корабля должен был признать, что гвоздь оказался ценнее. Чехов знал, как жестоко и тяжело разрушать чужие иллюзии и как это, однако, необходимо порою в интересах самого иллюзиониста; и благородный критик хвалил все, что можно было похвалить. Он помнил, какое счастье испытал он сам, почти неизвестный литератор, когда получил от Григоровича письмо, восхвалявшее его робкий, еще не уверенный в себе талант. «Ваше письмо, мой добрый, горячо любимый благовеститель, поразило меня как молния. Я едва не заплакал, разволновался и теперь чувствую, что оно оставило глубокий след в моей душе. Как Вы приласкали мою молодость, так пусть Бог успокоит Вашу старость; я же не найду ни слов, ни дел, чтобы благодарить Вас».

«Когда-то на смуглом лице юноши Лермонтова Тургенев прочел «зловещее и трагическое, сумрачную и недобрую силу, задумчивую презрительность и страсть». С таким выражением лица поэт и отошел в вечность; другого облика он и не запечатлел в памяти современников и потомства. Между тем внутреннее движение его творчества показывает, что, если бы ему не суждено было умереть так рано, его молодые черты, наверное, стали бы мягче и в них отразились бы тишина и благоволение просветленной души. Ведь перед нами – только драгоценный человеческий осколок, незаконченная жизнь и незаконченная поэзия, какая-то блестящая, но безжалостно укороченная и надорванная психическая нить.

«В представлении русского читателя имена Фета, Майкова и Полонского обыкновенно сливаются в одну поэтическую триаду. И сами участники ее сознавали свое внутреннее родство…».
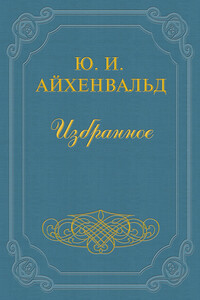
«Сам Щедрин не завещал себя новым поколениям. Он так об этом говорит: „писания мои до такой степени проникнуты современностью, так плотно прилаживаются к ней, что ежели и можно думать, что они будут иметь какую-нибудь ценность в будущем, то именно и единственно как иллюстрация этой современности“…».
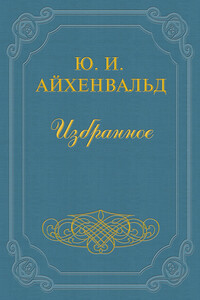
«На горизонте русской литературы тихо горит чистая звезда Бориса Зайцева. У нее есть свой особый, с другими не сливающийся свет, и от нее идет много благородных утешений. Зайцев нежен и хрупок, но в то же время не сходит с реалистической почвы, ни о чем не стесняется говорить, все называет по имени; он часто приникает к земле, к низменности, – однако сам остается не запятнан, как солнечный луч…».

«Наиболее поразительной и печальной особенностью Горького является то, что он, этот проповедник свободы и природы, этот – в качестве рассказчика – высокомерный отрицатель культуры, сам, однако, в творчестве своем далеко уклоняется от живой непосредственности, наивной силы и красоты. Ни у кого из писателей так не душно, как у этого любителя воздуха. Ни у кого из писателей так не тесно, как у этого изобразителя просторов и ширей. Дыхание Волги, которое должно бы слышаться на его страницах и освежать их вольной мощью своею, на самом деле заглушено тем резонерством и умышленностью, которые на первых же шагах извратили его перо, посулившее было свежесть и безыскусственность описаний.

«Одинокое произведение Грибоедова, в рамке одного московского дня изобразившее весь уклад старинной жизни, пестрый калейдоскоп и сутолоку людей, в органической связи с сердечной драмой отдельной личности, – эта комедия с избытком содержания не умирает для нашего общества, и навсегда останется ему близок и дорог тот герой, который перенес великое горе от ума и оскорбленного чувства, но, сильный и страстный, не был сломлен толпою своих мучителей и завещал грядущим поколениям свое пламенное слово, свое негодование и все то же благородное горе…».

НОВАЯ КНИГА знаменитого кинокритика и историка кино, сотрудника издательского дома «Коммерсантъ», удостоенного всех возможных и невозможных наград в области журналистики, посвящена культовым фильмам мирового кинематографа. Почти все эти фильмы не имели особого успеха в прокате, однако стали знаковыми, а их почитание зачастую можно сравнить лишь с религиозным культом. «Казанова» Федерико Феллини, «Малхолланд-драйв» Дэвида Линча, «Дневная красавица» Луиса Бунюэля, величайший фильм Альфреда Хичкока «Головокружение», «Американская ночь» Франсуа Трюффо, «Господин Аркадин» Орсона Уэлсса, великая «Космическая одиссея» Стэнли Кубрика и его «Широко закрытые глаза», «Седьмая печать» Ингмара Бергмана, «Бегущий по лезвию бритвы» Ридли Скотта, «Фотоувеличение» Микеланджело Антониони – эти и многие другие культовые фильмы читатель заново (а может быть, и впервые) откроет для себя на страницах этой книги.

Что происходит с современной русской литературой? Почему вокруг неё ведётся столько споров? И почему «лучшие российские писатели» оказываются порой малограмотными? Кому и за что вручают литературные премии? Почему современная литература всё чаще напоминает шоу-бизнес и почему невозможна государственная поддержка писателей, как это было в СССР? Книга отвечает на множество злободневных вопросов и приоткрывает завесу над современным литературным процессом.Во второй главе представлены авторские заметки о великих русских писателях.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
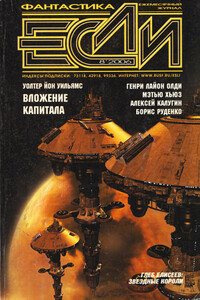
Предлагаем читателям первый обзор из серии «Кинопробы космической экспансии», посвященной истории «освоения» кинофантастикой Солнечной системы. Известный популяризатор истории космонавтики и писатель-фантаст Антон Первушин в трех статьях расскажет о взглядах кинематографистов на грядущее покорение Луны, Марса и Венеры. В первом обзоре автор поглядывает на естественный спутник Земли. О соседних планетах — читайте в ближайших номерах журнала. Из журнала «Если», 2006, №№ 7, 8, 10; 2007, № 5.
